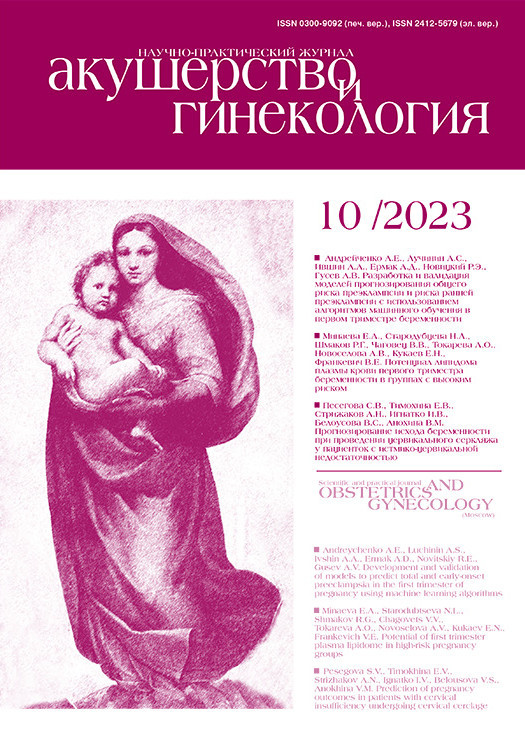Глюкокортикоиды являются важными стероидными гормонами, секретируемыми надпочечниками в ответ на стресс. Традиционно роль глюкокортикоидов в организме связывают с развитием противовоспалительных эффектов, которые опосредуются репрессией провоспалительных генов посредством передачи сигнала их глюкокортикоидным рецепторам, неспецифическим взаимодействием глюкокортикоидов с мембранными компонентами или через мембраносвязанный глюкокортикоидный рецептор [1–4].
Глюкокортикоидная терапия была впервые введена доктором Филипом Хенчем в 1940-х гг. для лечения ревматоидного артрита. С тех пор глюкокортикоиды назначают для лечения воспалительных заболеваний, включая бронхиальную астму, аллергический ринит, язвенный колит и ряд других дерматологических, офтальмологических, неврологических и аутоиммунных заболеваний. Хотя эффект глюкокортикоидов обычно описывается как противовоспалительный, существуют исследования, в которых показано, что данные препараты могут также оказывать и провоспалительное действие [1, 5]
Известно, что развитие легких человека включает четыре пренатальные фазы (эмбриональную, псевдогландулярную, канальцевую и мешковидную) и альвеолярную фазу, продолжающуюся постнатально. В легких плода, наполненных жидкостью, стабильность и податливость определяются в первую очередь структурными элементами альвеол, а именно истончением альвеолярной стенки и альвеолярных перегородок в сочетании с сосудистыми изменениями, которые, в свою очередь, важны для обеспечения эффективного газообмена после рождения. Также происходит выработка сурфактанта, который необходим для снижения поверхностного натяжения на границе раздела воздух-жидкость в альвеолах и стабилизации легких. Значительные количества сурфактанта обнаруживаются в легочных тканях примерно с 23–30-й недели беременности [3].
Глюкокортикоиды стимулируют дифференцировку и созревание легочных эпителиальных клеток посредством связывания с глюкокортикоидным рецептором. Даже на ранних сроках беременности глюкокортикоидные рецепторы в изобилии содержатся в тканях плода, но количество рецепторов варьируется в зависимости от типа клеток и гестационного возраста. Точные пути, с помощью которых стероиды оказывают свое действие, остаются не до конца изученными и могут включать как транскрипционные, так и посттранскрипционные механизмы [6, 7].
Возможным механизмом, объясняющим усиленную дифференцировку легочных эпителиальных клеток типа 2, является ингибирование синтеза ДНК глюкокортикоидами, на что указывает более низкая скорость включения тимидина в ДНК в присутствии глюкокортикоидов. Ингибирование синтеза ДНК приводит к ингибированию клеточной пролиферации и, следовательно, может вызвать стимуляцию клеточной дифференцировки [8, 9].
Другим опосредованным механизмом может являться увеличение синтеза фосфолипидов, входящих в состав сурфактанта, при действии глюкокортикоидов на глюкокортикоидный рецептор, который усиливает активность фактора, ограничивающего фермент фосфатидилхолин [10, 11].
Еще одним важным механизмом действия глюкокортикоидов является ингибирование отека легких. Существуют два возможных пути, приводящих к уменьшению альвеолярного отека. Было описано вызванное глюкокортикоидами увеличение легочной мРНК эпителиальных натриевых каналов in vitro: у антенатальных крысят, получавших кортикостероиды, выявлены более высокие уровни мРНК водных каналов аквапорина-1. Эти наблюдения позволяют предположить, что применение глюкокортикоидов улучшает регулирование реабсорбции жидкости в развивающемся легком путем либо непосредственного снижения легочного сосудистого сопротивления и альвеолярного отека, либо регулирования системы, ответственной за реабсорбцию жидкости. Описанные выше процессы могут быть важны для подготовки заполненных жидкостью легких внутриутробно к нормальному альвеолярному газообмену после рождения. Также уменьшение отека легких может быть вызвано опосредованным действием глюкокортикоид-индуцированной аденилатциклазы и снижением сопротивления легочных сосудов [12].
Глюкокортикоиды широко используются в акушерской практике для стимуляции созревания легких плода при угрозе преждевременных родов [13]. У здоровых плодов антенатальные глюкокортикоиды способствуют синтезу и секреции сурфактанта, усиливают структурное созревание альвеол для поддержки постнатальной функции легких, повышают комплаенс легких и генерируют усиленный ответ на постнатальное лечение сурфактантами. Глюкокортикоиды также оказывают аналогичное матурационное воздействие на другие органы плода, включая мозг, почки и кишечник. Кокрейновский обзор 30 исследований показал, что однократный курс профилактики респираторного дистресс-синдрома (РДС) новорожденных путем антенатального введения глюкокортикоидов до преждевременных родов был связан со снижением неонатальной смертности, РДС, внутрижелудочковых кровоизлияний, некротизирующего энтероколита, потребности в искусственной вентиляции легких и частоты выявления системных инфекций в первые 48 ч после рождения [14]. В настоящее время профилактика РДС новорожденных рекомендуется беременным женщинам с гестационным возрастом от 24 недель до 33 недель 6 дней, которые подвержены высокому риску преждевременных родов в течение 7 дней [11, 15].
В последнее время увеличивается число новорожденных с задержкой внутриутробного роста, являющихся одними из кандидатов на антенатальное воздействие глюкокортикоидами [16, 17]. Однако при данном осложнении беременности при недоношенном сроке не совсем все просто. Во-первых, до сих пор продолжаются споры о том, влияет ли задержка внутриутробного роста сама по себе на ускоренное созревание легких плода. Во-вторых, было высказано предположение, что элиминация глюкокортикоидов через плаценту или гематоэнцефалический барьер нарушается при задержке внутриутробного роста плода, и, следовательно, плод подвергается избыточному воздействию кортикостероидов в тканях легких, головного мозга и сердца. Это воздействие может неблагоприятно повлиять на развитие сердечно-сосудистой системы плода, адаптированной к задержке внутриутробного роста [9, 17–19]. Mitsiakos G. et al. [20] показали, что лечение глюкокортикоидами антенатально не только не улучшало исходы у недоношенных детей с задержкой внутриутробного развития, но также было связано с увеличением частоты тяжелой задержки роста [20]. Hodges R.J. et al. [21] также высказали предположение, что в условиях задержки внутриутробного роста плода введение глюкокортикоидов может быть вредным для плода.
На протяжении десятилетий предполагалось, что хронический внутриутробный стресс плода с задержкой роста может вызвать длительную стимуляцию надпочечников, ускорить созревание легких и привести к более низкому риску возникновения РДС в отличие от новорожденных без задержки роста. Вышеуказанное может свидетельствовать о том, что плоды с задержкой внутриутробного роста могут не получать пользы от введенных антенатально глюкокортикоидов в отличие от здоровых плодов [15, 20].
Во время беременности материнские надпочечники постепенно становятся гипертрофированными, и, несмотря на повышенный синтез кортикостероид-связывающего белка печенью, отмечается повышенный уровень свободного кортизола в материнском кровотоке со II–III триместров [11, 22]. Количество же вырабатываемого кортизола надпочечниками плода минимально по сравнению с вырабатываемым надпочечниками матери. Подсчитано, что около 40–50% кортизола плода образуется из материнского к концу беременности, а 15% материнского кортизола проходит через плаценту неметаболизированным при физиологически протекающей беременности. Тем не менее потребность в созревании органов плода к концу периода гестации увеличивается; плоду по-прежнему необходимо получать достаточное количество материнского кортизола [8, 23, 24].
Плацентарный глюкокортикоидный барьер представлен двумя ферментами 11β-гидроксистероиддегидрогеназы – 11β-HSD1 и 11β-HSD2, метаболизирующими глюкокортикоиды с противоположным эффектом. 11β-HSD1 является редуктазой, превращающей биологически неактивный кортизон в активную его форму; 11β-HSD2 представляет собой эксклюзивную оксидазу, превращающую биологически активный кортизол в неактивный кортизон [2]. На ранних сроках беременности 11β-HSD2 в плаценте инактивирует 80% материнских глюкокортикоидов, что обеспечивает их низкое содержание в крови плода. Экспрессия плацентарного 11β-HSD2 увеличивается по мере развития беременности, но снижается на поздних сроках гестации, что увеличивает поступление глюкокортикоидов к плоду и способствует развитию таких органов, как мозг и легкие. Данное утверждение было подтверждено изучением онтогенеза плацентарной экспрессии 11β-HSD2: мРНК 11β-HSD2 и ее активность увеличиваются с гестационным возрастом до поздних сроков беременности [25–27]. Murphy V.E. et al. [28] показали, что содержание мРНК 11β-HSD2 в плаценте увеличивается вплоть до 36-й недели гестации и не изменяется после этого срока вплоть до родов.
Из-за патологического стресса плоды с задержкой внутриутробного роста могут подвергаться воздействию более высоких уровней эндогенных кортикостероидов в результате нескольких механизмов: увеличение синтеза и секреции кортизола надпочечниками плода, снижение его утилизации через гематоэнцефалический или плацентарный барьеры, а также уменьшение способности блокировать прохождение материнского кортизола через плаценту. Введение экзогенных глюкокортикоидов может изменить способность новорожденного с задержкой внутриутробного роста компенсировать внутриутробный стресс, вызванный плацентарной недостаточностью [8, 27, 29].
В последние годы появились данные о том, что чрезмерное воздействие глюкокортикоидов во время беременности препятствует нормальному развитию нервной системы плода. Исследования показали, что независимо от того, подвергается ли плод воздействию среды с высоким содержанием эндогенных глюкокортикоидов из-за стресса во время беременности матери или антенатального введения глюкокортикоидов, формируется повышенный риск поведенческих и эмоциональных расстройств у новорожденных [30–33].
Мутация гена 11β-HSD2 человека, которая связана со сниженной плацентарной активностью этого фермента, также высоко экспрессируется в развивающемся мозге. Эти данные свидетельствуют о том, что эффекты высоких циркулирующих уровней кортизола, связанных с задержкой роста плода, объясняют специфические изменения в экспрессии генов и участвуют в их биологическом ответе во многих тканях, включая центральную нервную систему [20, 31, 34, 35]. В исследованиях, проведенных Tzschoppe A. et al. [36], показано, что экспрессия 11β-HSD2 в плаценте не только положительно коррелировала с массой тела при рождении, но и была обратно пропорциональна скорости роста на первом году постнатальной жизни новорожденного с задержкой внутриутробного роста, что еще больше указывает на решающую роль плацентарного 11β-HSD2 в защите плода от высокого уровня кортизола в крови плода, приводящего к задержке внутриутробного роста. По мнению Zhu P. et al. [2], усиление уровня метилирования в промоуторной зоне гена 11β-HSD2 является одним из основных механизмов, лежащих в основе сниженного содержания 11β-HSD2 при задержке роста плода.
Обращает на себя внимание, что исследования как на людях, так и на животных показали, что острый и хронический стресс могут по-разному влиять на экспрессию 11β-HSD2 в плаценте. При остром стрессе стимулируется экспрессия 11β-HSD2, при хроническом стрессе ингибируется экспрессия 11β-HSD2 в плаценте. Вполне вероятно, что активация плацентарного 11β-HSD2 при остром стрессе может быть определена как немедленная защитная мера, принятая плодом против внезапного повышения материнских глюкокортикоидов, в то время как ингибирование плацентарного 11β-HSD2 при хроническом стрессе может быть стратегией, принятой плодом для своего выживания [2, 32, 37–40].
С учетом изначально высокого уровня глюкокортикоидов в крови плода с задержкой внутриутробного роста, дополнительное введение экзогенных глюкокортикоидов может препятствовать нормальному развитию нервной системы плода, в частности гиппокампа. При чрезмерном повышении уровня глюкокортикоидов активируются глюкокортикоидные рецепторы, обильно представленные в гиппокампе. Происходит быстрое ингибирование гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси, а также специфическое уменьшение объема как серого, так и белого вещества гиппокампа. Аномальная активация ГГН-оси и гиппокампальная гипотрофия, индуцированные глюкокортикоидами, могут играть важную роль в патогенезе широкого спектра когнитивных, а также поведенческих расстройств в постнатальном периоде [22, 23, 41].
Исследований по влиянию антенатальной профилактики РДС новорожденных на неонатальные исходы при задержке внутриутробного роста крайне недостаточно, имеющиеся данные разноречивы [11, 42]. В начале XXI в. исследователи считали, что антенатальное введение глюкокортикоидов не оказывает влияния на неонатальную заболеваемость и смертность плодов с задержкой роста [11]. В то же время были проведены ретроспективный анализ и исследования «случай-контроль», доказывающие, что антенатальная стероидная терапия не снижает частоту РДС у новорожденных с задержкой роста, возможно, из-за того, что зрелость легких у этих плодов уже увеличена из-за повышенной выработки эндогенных глюкокортикоидов, связанной с хроническим внутриутробным стрессом и распадом 11-βHSD2 [2, 38, 39]. Особый интерес представляет то, что частота встречаемости внутрижелудочковых кровоизлияний также была идентичной у новорожденных с задержкой роста, матери которых получали и не получали глюкокортикоиды во время беременности [38].
В последние годы безопасность применения синтетических глюкокортикоидов у беременных с целью антенатальной профилактики РДС новорожденных является предметом активных дискуссий [16, 43]. Результаты исследований на моделях животных показали, что антенатальное использование синтетических глюкокортикоидов оказывает влияние на развитие ГГН-системы плода, в результате чего у потомства отмечается гиперактивность (гиперреактивность) ГГН-системы; изменение поведения и снижение познавательных способностей приводят к необратимым нейроэндокринным последствиям, характеризующимся программированием поведения и определенных психологических функций [27, 34, 38].
С учетом высокой частоты применения синтетических глюкокортикоидов во время беременности у женщин с риском преждевременных родов, научно-практический интерес представляет изучение отдаленных последствий подобного воздействия на развитие детей в различные периоды онтогенеза, особенно у детей с задержкой внутриутробного роста [22, 42, 43].
Заключение
Таким образом, обнаружение стимулирующего действия глюкокортикоидов на развитие легких плода свидетельствует о важной роли эндогенного кортизола в процессе роста и развития плода. При преждевременном родоразрешении не происходит полного глюкокортикоид-индуцированного созревания легких, что в превалирующем числе случаев приводит к низкому уровню сурфактанта с последующим развитием РДС у этих новорожденных. В данном случае необходимо проводить профилактику РДС у плода при выявленном высоком риске преждевременных родов. Эффекты антенатального лечения глюкокортикоидами у недоношенных детей с задержкой внутриутробного роста остаются неопределенными. Из-за патологического стресса плоды с задержкой внутриутробного роста могут подвергаться воздействию более высоких уровней эндогенных кортикостероидов в результате нескольких механизмов: увеличение синтеза и секреции кортизола надпочечниками плода, снижение его утилизации через гематоэнцефалический или плацентарный барьер, а также уменьшение способности блокировать прохождение материнского кортизола через плаценту. Учитывая изначально высокий уровень глюкокортикоидов в крови плода с задержкой внутриутробного роста, дополнительное введение экзогенных глюкокортикоидов может препятствовать нормальному развитию нервной системы плода. Следовательно, проведение антенатальной кортикостероидной терапии у недоношенных детей с задержкой внутриутробного роста может привести к прогрессированию плацентарной недостаточности, которая впоследствии может только усугубить развитие когнитивных и неврологических нарушений у плода. Уточнение клеточных и молекулярных механизмов, вызывающих плацентарную дисфункцию при задержке роста плода, необходимо для оптимизации тактики ведения беременных с данным осложнением беременности.