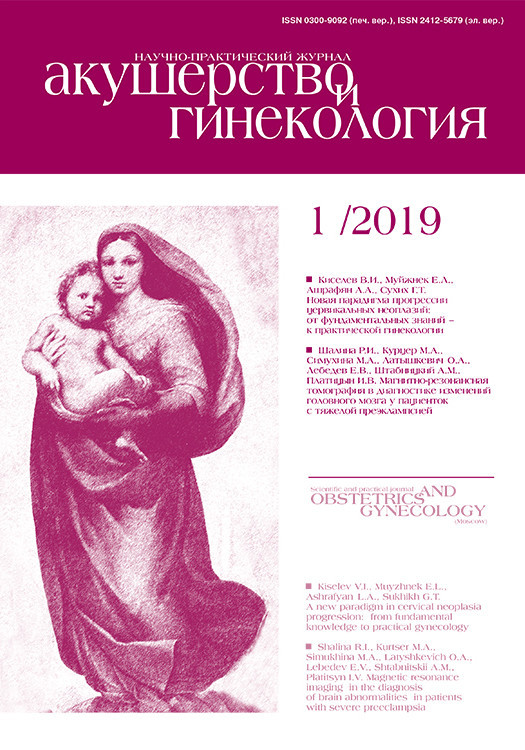Тромбофилические состояния играют большую роль в генезе многих осложнений беременности. Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению различных факторов свертывания, до сих пор до конца не определена тактика ведения беременности при некоторых формах тромбофилий, особенно редко встречающихся.
Наследственный дефицит антитромбина III (АТ III) до сих пор остается недооцененным и недоучтенным среди всех возможных причин тромботических осложнений. Дефицит именно этого фактора является одной из самых серьезных причин тромбозов. Его выявление среди пациентов с тромбозами глубоких вен и тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) варьирует от 3 до 8% и, по некоторым данным достигает 10% [1]. Беременность у таких пациенток помимо крайне высокого риска тромбоза сопряжена с высокой частотой акушерских и перинатальных осложнений. Частота развития тромбозов во время беременности у них достигает 20%, а в послеродовом периоде увеличивается до 40%.
Этот вид патологии был впервые описан O. Egebrrg в 1965 г., с этого момента количество описаний множится. Антитромбин является ингибитором всех сериновых протеаз (тромбин, факторы IХа, Ха, ХIIа, калликреин, плазмин, урокиназа), вовлеченных в процесс свертывания крови, и оказывает свое антикоагулянтное действие главным образом через инактивацию тромбина и фактора Ха. Самостоятельная ингибирующая активность у него довольно низка, однако в случае взаимодействия с гепарином, его деятельность потенцируется более чем в 1000 раз. В настоящее время идентифицировано более 80 мутаций в гене антитромбина, который локализуется в хромосоме 1 (q23–25). Дефектность АТ III проявляется при снижении его уровня менее 60–70%. Дефицит передается аутосомно-доминантно. Гомозиготные или дублированные гетерозиготные мутации не описаны, вероятно, из-за несовместимости с жизнью. Считается, что распространенность дефицита АТ III в популяции составляет 1:2000–1:5000 и по некоторым данным достигает 0,03% [2]. Такая относительно высокая частота объясняется отчасти тем, что не у всех больных зарегистрировано снижение синтеза АТ III; у ряда пациентов снижается функциональная активность при его нормальной продукции и нормальном уровне; а также тем, что до 50% больных имеют «бессимптомный» дефицит АТ III или не обследованы на этот вид тромбофилии. Бессимптомное носительство чаще встречается у мужчин, у которых меньше потенциальных факторов риска, самыми грозными из которых считаются беременность и прием оральных контрацептивов. Необходимость триггеров для развития венозного тромбоза объяснена еще в 19 веке Вирховым. Согласно его триаде, кроме патологии крови необходимо еще 2 условия: венозный стаз и изменения эндотелия [3]. Кроме того, исходя из концепции тромботического шторма, предложенной С. Kitchens в 1998, все заболевания с массивным тромбообразованием развиваются вследствие избыточного ответа на первоначальный протромботический стимул. В основе этого явления лежит прогрессирующая активация образования тромбина и угнетение фибринолиза [4].
Беременность сама по себе является протромбогенным состоянием и способна существенно увеличить тромбогенный потенциал дефицита АТ III, стать триггером для развития тромботических осложнений [5].
Приводим собственные наблюдения молодых пациенток с дефицитом АТ III, для которых именно беременность стала пусковым фактором для реализации тромбоза.
Наблюдение 1. Пациентка Б.З., 1977г.р., проживает в республике Северная Осетия. В 1998 г. на сроке 12 недель первой самопроизвольной беременности резко отекли правые голень и стопа, отек быстро распространился до паха, на следующий день присоединился симметричный отек левой нижней конечности. На утро следующего дня появилась одышка и элементы кровохарканья. Госпитализирована по месту жительства, где был диагностирован илеофеморальный тромбоз обеих нижних конечностей, тромбоз нижней трети нижней полой вены и ТЭЛА мелких ветвей с формированием двухсторонней нижнедолевой пневмонии (подтверждено с помощью компъютерной томографии легких с контрастированием). Беременность прервана по медицинским показаниям, cava-фильтр не установлен. После прерывания беременности постоянной антикоагулянтной терапии не получала.
При выяснении анамнеза оказалось, что отец пациентки внезапно умер в молодом возрасте, предположительно от ТЭЛА. Обследована вместе с сестрой-близнецом, у обеих выявлено снижение уровня АТ III до 20–27%. Такое же снижение выявлено у дяди и двоюродного брата.
В 2000 г. наступила 2-я беременность, во время которой получала низкомолекулярный гепарин (НМГ) в профилактических дозах и свежезамороженную плазму (2 пакета в неделю). Уровень АТ III не мониторировался, при редких измерениях он не превышал 37%. Родоразрешена в срок (плановое кесарево сечение по акушерским показаниям). Послеродовый период без особенностей, длительность приема НМГ после родоразрешения не помнит, терапия свежезамороженной плазмой после родов не проводилась. В дальнейшем антикоагулянты не принимала. У сына дефицита АТ III не выявлено. В 2003г. подобным образом выносила беременность сестра пациентки, у дочери которой подтвержден врожденный дефицит АТ III.
В 2015 г – 3-я беременность, с ранних сроков которой получала НМГ в профилактической дозе. На сроке 10 недель – отек правой нижней конечности с болезненностью и гиперемией бедра до паховой связки, диагностирован рецидив тромбоза справа в системе общей бедренной вены, быстрое начало терапии НМГ в адекватной дозе (анти Ха 0,8). Однако через 4 недели на фоне терапии НМГ диагностирована прогрессия тромбоза. Обсуждались возможности назначения, как непрямых антикоагулянтов, так и прямых таблетированных форм. Кроме того, скрининговое исследование, выполненное в 12 недель беременности, показало высокий риск хромосомной аномалии у плода, была рекомендована инвазивная диагностика. Для уточнения тактики ведения и проведения амниоцентеза была направлена в НЦАГ и П на сроке 16–17 недель беременности. Обследована, уровень АТ III составил 27%, Д-димер 4600 нг/мл, растворимый комплекс мономеров фибрина (РКМФ) – резкоположительный, фибриноген 3,8 г/л. По данным ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) – признаки острого тромбоза бедренной вены справа на фоне посттромбофлебитической болезни обеих нижних конечностей. К терапии НМГ добавлена заместительная терапия концентратом АТ из расчета исходного уровня 27%, в первый день введено 1500 МЕ, во второй день – 1000 МЕ, уровень АТ III достиг 47–63%, Д-димер снизился до 2600 нг/мл. В этот же день был выполнен амниоцентез и повторно введено 1000 МЕ. Затем получала по 500 МЕ концентрата с поддержанием целевого уровня АТ III 60–70% на протяжении 5 дней и была выписана под наблюдение по месту жительства с рекомендацией продолжить терапию концентратом АТ в сочетании с лечебными дозами НМГ. По месту жительства ей было отказано в возможности бесплатного получения концентрата, поэтому в течение недели по месту жительства пациентка получала терапию свежезамороженной плазмой в сочетании с прежними дозами НМГ, уровень АТ варьировал от 43 до 50%. В динамике оценивались показатели гемостаза, проводилась допплерография нижних конечностей, признаков усугубления тромбоза зарегистрировано не было. Через неделю по результатам инвазивной пренатальной диагностики получен нормальный кариотип у плода и коллегиально решено вести беременность на фоне приема варфарина. Варфарин пациентка начала получать с 18–19 недель с быстрым достижением целевого МНО 2,0–3,0. Дальнейшее течение беременности было гладким, неоднократно выполнялись УЗДГ сосудов нижних конечностей (признаки реканализации тромбоза), ультразвуковое исследование плода для исключения тератогенного потенциала варфарина (дефектов лицевого скелета обнаружено не было), однократно исследованы маркеры преэклампсии (PLGF/sFlt-1 – отрицательные.) В 36 недель пациентка была госпитализирована для плановой отмены варфарина, возобновления терапии НМГ с концентратом АТ и родоразрешения. За неделю до предполагаемой даты родов отменен варфарин и начата терапия НМГ с быстрым достижением антиХа 0,5–1,0. Исходя из уровня АТ III 23% начата терапия концентратом АТ III (1500 МЕ в первый день, затем по 500–1000 МЕ) и на сроке 37–38 недель пациентка родоразрешена путем операции кесарева сечения. Родился живой доношенный мальчик весом 2990 г. длиной 49 см с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. Уровень АТ III на 5-ые сутки жизни ребенка составил 60%. НМГ отменен за 12 часов до оперативного вмешательства. В день операции введено 1000 МЕ концентрата АТ. Ранний послеродовый период протекал спокойно, НМГ в лечебных дозах возобновлен через 12 часов после операции, в течение 3 дней продолжена терапия АТ 500 МЕ, после чего пациентка переведена на терапию варфарином с рекомендацией пожизненного его приема.
Наблюдение 2. Пациентка К.К., 1989 г.р., проживает в Тамбове, врач.
Наблюдаемая беременность была первой, наступила самостоятельно. В 13 недель после венепункции для очередного исследования показателей крови у пациентки возник флебит кубитальной вены, отек быстро распространился на предплечье и плечо. Консультирована хирургом по месту жительства, назначена терапия гепарин-содержащими мазями и венотониками без эффекта. Через 2 недели с сохраняющимся отеком левой верхней конечности появился и быстро распространился до паховой связки односторонний отек левой нижней конечности. Диагностирован острый илеофеморальный тромбоз слева, начата антикоагулянтная терапия НМГ в дозе 2 мг/кг. Доза снижена до 1 мг/кг через 2 недели. Обратилась на консультативный прием в НЦАГиП в апреле 2016г на сроке 19–20 недель. По данным УЗДГ сохранялись признаки илеофеморального тромбоза, частичная реканализация. Исключены мутации в гене протромбина (фактора II) и Лейдена (фактора V), уровень гомоцистеина составил 4,6, волчаночный антикоагулянт, антитела к β2 гликопротеину 1, антикардиолипиновые антитела – отрицательные. Выявлено снижение уровня АТ III до 25%, которое вначале трактовалось как следствие потребления АТ III в острую фазу тромбоза, доза НМГ увеличена до лечебной, быстро достигнут целевой уровень антиХа-активности, начаты инфузии концентрата АТ по формуле (1500 МЕ в первый день, затем – 1000 МЕ, затем – 500 МЕ) однако по достижении АТ III 60% без введения препарата он самостоятельно снизился до 40%, в связи с чем предположен наследственный дефицит. У отца пациентки в юношеском возрасте был тромбоз глубоких вен, спровоцированный травмой. Отцу также выполнено исследование уровня АТ III, который оказался снижен до 43%, что окончательно утвердило нас в диагнозе врожденного дефицита АТ III.
В дальнейшем беременность велась на сочетанной терапии концентратом АТ, дозы которого постоянного корригировались согласно уровню АТ III, и лечебных дозах НМГ. В 28 недель исследованы маркеры преэклампсии (PLGF/sFLT-1 – отрицательные). По данным УЗДГ, выполненной в 30 недель беременности – полная реканализация тромбоза. Самопроизвольные роды на сроке 36 недель, в I периоде введено 1500МЕ концентрата АТ, родилась живая недоношенная девочка весом 2665Тг, ростом 50 см, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. В день родов повторно введено 1000МЕ концентрата АТ в связи со снижением уровня АТ III до 47%, на следующий день введено 1000МЕ, затем ежедневно вводилось по 500МЕ. Пациентка выписана на 4-е сутки с рекомендацией продолжить терапию НМГ в течение 6 недель.
Обсуждение
Представленные наблюдения интересны сразу с нескольких сторон. Они иллюстрируют трудности, с которыми сталкиваются врачи в нашей стране при ведении женщин с тромботическими заболеваниями, сложности выявления дефицита АТ III во время беременности, а также в выборе единого терапевтического подхода.
По современным оценкам, до 40% пациентов с врожденным дефицитом AT III развивают ассоциированные с беременностью тромбозы, причем наиболее часто они реализуются в раннем послеродовом периоде [6]. Во время недавно проведенного одноцентрового исследования в Венгрии выяснилось, что наиболее высокому риску тромботических эпизодов и неблагоприятных исходов беременности подвержены пациентки с дефектами AT III в гепарин-связывающих участках. Это исследование показало, что даже тип дефицита AT III может играть решающую роль в определении фенотипа болезни [5]. К сожалению, генетическое исследование в нашей стране не выполняется, поэтому мы можем ориентироваться лишь на доступные измерения.
До недавнего времени считалось, что врожденный дефицит АТ III характеризуется только венозными тромбозами. Однако, по мере увеличения количества наблюдений за проявлениями болезни оказалось, что для них характерны и артериальные тромбозы, а также акушерские осложнения, свойственные для других тромбофилий: в ряде случаев регистрируются спонтанные ранние потери беременности, есть описания тяжелой преэклампсии и даже HELLP-синдрома, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты и антенатальной гибели плода [7–9]. Именно поэтому в спектр диагностических исследований у пациенток с необъяснимыми ранними и поздними потерями беременности, тромботическими заболеваниями необходимо включать исследование уровня АТ III. Особенно, когда генез этих нарушений не ясен.
К сожалению, с ведением беременности у таких пациенток возникают большие сложности. Согласно руководству Американского колледжа торакальных врачей (ACCP 2012) по профилактике тромбозов во время беременности пациентки со случайно выявленной бессимптомной тромбофилией, кроме носителей гомозиготной мутации фактора V (Лейдена) или протромбина, не нуждаются в профилактике НМГ. Таким пациентам необходимо тщательное до- и послеродовое наблюдение, а также компрессионный трикотаж. В литературных источниках, используемых для подготовки данного протокола, указаны результаты обзора Р. Friederich, описавшего в 1996 г. 33 беременности у пациенток с врожденным дефицитом АТIII [10], а также систематический обзор по рискам тромбоза и экономической оценке скрининга тромбофилии. Надо отметить, что исследование Р. Friederich выявило ОШ 4,7 (95% ДИ 1,3–17,0) для развития тромботических осложнений при дефиците АТIII. Результаты систематического обзора, опубликованные M.Rheaume и соавт. в 2016 г. и включившего 377 беременностей у женщин с дефицитом АТ III [11] показали более высокое ОШ 6,09 (CI 1,58–23,43), в этот обзор также вошло исследование Р. Friederich. В обсуждении авторы предлагают отказаться от результатов анализа «Тромбоз: Риск и экономическая оценка скрининга на тромбофилию», т.к. большая часть литературных наблюдений за течением беременности при дефиците АТ III опубликована позже выхода данного обзора, а в обзоре основной упор делается именно на экономическую целесообразность исследования на предмет тромбофилии с дальнейшей профилактикой НМГ.
В комментариях De Stefano к ACCP 2012 оправдывается профилактика НМГ всем пациенткам с бессимптомным носительством дефицита АТ III во время беременности в связи с высоким риском развития тромботических осложнений у женщин, не получавших НМГ [12]. В своем постулате De Stefano опирается на данные крупных систематических обзоров. Его комментарий подкреплен проспективным исследованием-наблюдением за течением беременности у членов семей с дефицитом AT III, выявившим развитие тромбозов в 14% случаев [13].
Выводом систематического обзора M. Rheaume, единичных наблюдений и комментария к протоколу АССР 2012 De Stefano является рекомендация профилактики НМГ в течение всей беременности и 6 недель после родоразрешения всем женщинам с выявленным дефицитом АТ III независимо от тромботического семейного анамнеза.
Ведение женщин с врожденным дефицитом АТ III и острым тромбозом в данную беременность также вызывает большие сложности. Исходя из рекомендаций ACCP, ACOG, Французского и Британского протоколов профилактики венозных тромбоэмболий они, как и другие пациенты с тромбозами во время данной беременности, подлежат назначению лечебных доз НМГ или нефракционированного гепарина (НФГ) в сочетании с эластической компрессией в течение всего периода беременности и от 6 до 8 недель после родоразрешения при условии, что общая продолжительность терапии будет не менее 6 месяцев [14–16].
Учитывая тот факт, что гепарины реализуют свою антикоагулянтную активность через активацию АТ III, высказываются сомнения в возможности достижения терапевтического потенциала данных препаратов при использовании их без добавления концентрата АТ III. В Германии проведен ретроспективный многоцентровой анализ, в котором исследовали более 1000 пациентов с гестационно-ассоциированными тромбозами и другими осложнениями беременности, характерными для тромбофилии. Из них дефицит АТ III был выявлен у 7 пациентов, общее количество беременностей у них составлило 18 [17]. У 4 пациентов, несмотря на профилактику НМГ случился рецидив тромбоза во время беременности, в 2 случаях диагностирована антенатальная гибель плода на сроке 21 и 28 недель и 1 тяжелая преэклампсия на сроке 25 недель. На основании крайне неблагоприятных исходов беременностей при изолированном использовании НМГ предположена недостаточная эффективность НМГ во время беременности. В то же время при использовании комбинации НМГ и концентрата АТ ретромбозов и неблагоприятных акушерских событий зарегистрировано не было. Авторы делают вывод о том, что только сочетанное применение НМГ и концентрата АТ позволит минимизировать частоту тромботических и акушерских осложнений.
Данное утверждение имеет ряд ограничений: во-первых, концентрат АТ – дорогой препарат, который пациентка должна получать в течение всей беременности в зависимости от уровня исходного АТ III (т.е. доза должна постоянно корригироваться), во-вторых, в этих исследованиях не указано значение анти Х-а активности, и заявление о гепарин-резистентности, возможно, исходит из-за недостаточной дозы антикоагулянтов[18, 19]. В нашем первом случае уровень анти Ха соответствовал целевым значениям, однако была отмечена прогрессия тромбоза. В связи с этим, а также из-за отсутствия возможности получения концентрата АТ III, мы предпочли выбрать более агрессивную тактику ведения беременности, нежели продолжить терапию НМГ без концентрата. Схожая тактика была избрана в серии наблюдений тромбозов, возникших во время беременности у женщин, не обследованных ранее на дефицит АТ III, отличались только сроки начала и прекращения терапии антагонистами витамина К, что также было связано с обеспечением концентратом АТ [20, 21].
Антагонисты витамина К проникают через плацентарный барьер и обладают высоким тератогенным потенциалом (категория Х по FDA). В систематическом обзоре литературы, описывающем последствия для плода и матери, Chan и соавторы разделили пациенток, вынужденных получать непрямые антикоагулянты в связи с крайне высоким эмболическим потенциалом (например, при двух протезированных клапанах сердца). Таких беременных разделили на 2 группы: 1 группа была вынуждена использовать антагонисты витамина К в течение всего периода беременности, во 2 проводилась замена антагонистов витамина К на НФГ/НМГ с 6 по 12 недели. Авторы обнаружили, что использование антагонистов витамина К в течение всего периода беременности было связано с врожденными аномалиями в 35 из 549 случаев (6,4%; 95% доверительный интервал [ДИ], 4,6–8,9%) [22]. Самой частой замеченной эмбриональной аномалией была характерная кумариновая эмбриопатия, состоявшая из носовой гипоплазии и/или точечных эпифизов. О гипоплазии конечности сообщили в одной трети случаев эмбриопатии, которая зарегистрирована при применении антагонистов витамина К в течение первого триместра беременности. Величина этого риска варьируется в разных сообщениях от 0% до 29,6 %.
Учитывая вероятность их неблагоприятного влияния на плод, антагонисты витамина К должны использоваться во время беременности только когда потенциальная польза для матери превалирует над потенциальными рисками для плода.
Родоразрешение пациенток с дефицитом АТ III должно проходить с использованием концентрата, т.к. в процессе родов АТ III активно потребляется, а отделение плаценты сопряжено с образованием большого количества тромбина [23]. Доза концентрата рассчитывается согласно исходному уровню АТ III, а также уровню АТ III сразу после родоразрешения.
Сложнее подобрать дозу АТ III на протяжении всей беременности учитывая то, что первоначально она рассчитывается зависимо от исходного уровня, а в последствии необходимо каждый раз предварительно исследовать новый уровень АТ III. По данным единичных статей, обобщающих изменение концентрации АТ III после заместительной терапии, хватает 3500 ЕД в неделю для поддержания уровня АТ III более 80%. Вторая описанная пациентка согласно этим рекомендациям получала указанную дозу, уровень АТ III варьировал от 50 до 70%.
Обе пациентки не развили ранних рецидивов тромбозов во время беременности, нам удалось избежать акушерских осложнений. В обоих случаях родились здоровые дети, развитие которых в дальнейшем соответствовало физиологическому. Обе пациентки были выписаны с рекомендациями продолжить антикоагулянтную терапию: в первом случае –пожизненно, во втором – до 6–8 недель после родоразрешения. После прерывания терапии НМГ во втором случае было отмечено нарастание уровня Д-димера до 5 норм в трех последовательных анализах крови с интервалом в неделю без признаков ретромбоза по УЗДГ, вследствие чего пациентка переведена на варфарин. Длительность терапии пока обсуждается.
Выводы
Дефицит АТ III – редкая форма тромбофилии, сопряженнная с высоким риском тромботических осложнений, особенно во время беременности. Всех женщин с тромботическим анамнезом следует направлять на исследование этого фактора.
Патогенетическим методом профилактики и лечения является заместительная терапия концентратом АТ, который показан всем без исключения пациентам с врожденным дефицитом АТ III для профилактики и лечения тромбозов во время беременности в дополнение к НМГ. Однако в силу экономической составляющей, может быть выбран сугубо индивидуальный подход к ведению этих женщин.
Наиболее оптимальные результаты достигаются при сочетанном назначении НМГ и АТ III, особенно на этапе родоразрешения. Изолированное назначение НМГ в лечебных дозах на протяжении беременности вполне возможно, несмотря на противоречивые результаты разных исследований. Очевидно, сделать универсальные рекомендации очень сложно в силу редкости данной формы тромбофилии и малого количества наблюдений.
В крайне редких случаях со 2 триместра беременности возможно назначение непрямых антикоагулянтов, что существенно снижает экономические затраты на лечение и обеспечивает достаточную степень антикоагуляции. Учитывая вероятность их неблагоприятного влияния на плод, антагонисты витамина К должны использоваться во время беременности только когда потенциальная польза для матери превалирует над потенциальными рисками для плода.
Только индивидуальный подход, тщательное мониторирование беременности у пациенток с дефицитом АТ III, своевременное и грамотное проведение заместительной терапии позволяет существенно улучшить исходы беременности и избежать фатальных последствий. Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению различных видов тромбофилии, до сих пор до конца не определена единая тактика ведения беременности при редко встречающихся формах.