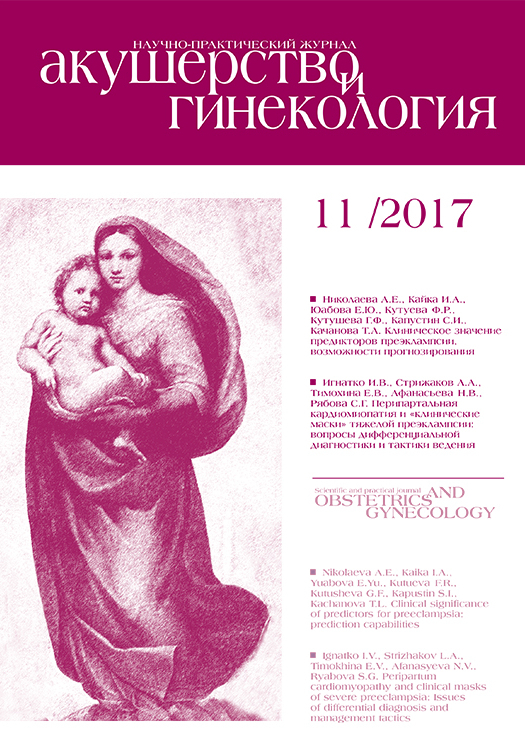Зеркальный синдром – тяжелое осложнение беременности, угрожающее здоровью женщины и характеризующееся неблагоприятными перинатальными исходами [1]. Частота встречаемости данного синдрома неизвестна, так как его диагностика сложна и часто он остается не выявленным, протекая под маской преэклампсии и других состояний, ассоциированных с беременностью.
Зеркальный синдром, характеризующийся наличием отеков беременной и плода, был впервые описан Джоном Вильямом Баллантайном в 1892 году [2]. В течение многих лет данный симптомокомплекс, который «отражает, как в зеркале» состояние плода, имел множество названий, таких как псевдотоксемия, синдром водянки беременной, токсемия беременной, ранняя преэклампсия, синдром Баллантайна или зеркальный синдром [3, 4].
Патогенез и патофизиология данного осложнения остаются неизвестными. В основе развития зеркального синдрома могут быть иммунные факторы, вызывающие водянку плода, такие как резус-сенсибилизация или АВ0-сенсибилизация, и неиммунные причины. К неиммунным факторам относятся аневризма вены Галена, крестцово-копчиковая тератома, аномалия Эбштейна, нарушение сердечного ритма плода, хорионангиома плаценты и инфекционно-воспалительный процесс, вызванный парвовирусом или вирусом Коксаки, а также фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС) [5–13].
Обязательным проявлением зеркального синдрома является водянка (полисерозит) матери. В большинстве наблюдений перинатальный исход неблагоприятный, антенатальная гибель плода наступает в 56% случаев. С другой стороны, описаны случаи спонтанного исчезновения клинической картины зеркального синдрома, как у матери, так и у плода при инфекционной природе синдрома, вызванной парвовирусом В19, селективной редукции одного наиболее пораженного плода при ФФТС, а также после терапевтической коррекции тахиаритмии плода [1, 12–15].
ФФТС – тяжелое осложнение многоплодной беременности, которое встречается в 9-15% случаев всех монохориальных двоен [16]. На основании эхографических признаков в 1999 году R. Quintero разработал классификацию ФФТС, которая получила широкое распространение и является общепризнанной [17]. Четвертая стадия ФФТС, при которой у одного из плодов возникает водянка (асцит, гидроперикард, плевральный выпот и отек подкожно-жировой клетчатки головы и туловища), нередко осложняется присоединением зеркального синдрома [1]. Согласно систематическому обзору 56 случаев зеркального синдрома, к симптомам, встречающимся у беременной женщины, относят следующие: набор веса и отеки (89,3%), повышение артериального давления (60,7%), анемия и снижение гематокрита (46,4%), протеинурия (42,9%), повышение мочевины и креатинина (25%), повышение печеночных ферментов (19,6%), олигурия (16,1%), головные боли и нарушение зрения (14,3%) – т.е. симптомы, характерные и для преэклампсии [1]. Отек легких развивается в 21,4% случаев. В нашем исследовании мы представляем описание клинических наблюдений зеркального синдрома, возникшего в результате ФФТС.
Клиническое наблюдение 1. Пациентка М., 29 лет, поступила в ФГБУ НЦАГиП, где был поставлен диагноз: Беременность 22 недели 6 дней. Монохориальная диамниотическая двойня. ФФТС стадия Quintero II. Анемия беременных легкой степени. Данная беременность третья, наступила после ЭКО, в анамнезе два самопроизвольных выкидыша в первом триместре.
По данным клинико-лабораторного обследования отмечалась анемия (гемоглобин 90 г/л), снижение гематокрита (0,287L/L), гипопротеинемия (47,6г/л), повышение трансаминаз (fланинаминотрансфераза (АЛТ) 41,7 ЕД/л; аспартатаминотрансфераза (АСТ) 44,6 ЕД/л), гиперкоагуляция, активация внутрисосудистого свертывания крови. Группа крови 0(I), Rh-положительный, антиэритроцитарные антитела отсутствуют.
По данным эхографии: Монохориальная диамниотическая двойня. Размеры плодов соответствовали сроку беременность 22 недели. ФФТС IV стадия. Отсутствие амниотической жидкости и визуализации мочевого пузыря плода-донора, многоводие плода-реципиента (максимальный вертикальный карман (МВК) – 16 см). Фетальный кровоток плодов нарушен – «нулевой» кровоток в артериях пуповины плода-донора, «реверсная» А-волна в венозном протоке плода-реципиента. Был выявлен отек подкожно-жировой клетчатки головы и туловища плода-реципиента. В связи с наличием ФФТС IV стадии было решено провести фетоскопию, селективную лазерную фотокоагуляцию сосудистых анастомозов плаценты. В условиях седации раствором тиопентала натрия 1%, под местной анестезией ропивакаином 75 мг, произведена лазерная коагуляция 4 сосудистых анастомозов плаценты. Из амниотической полости плода-реципиента медленно удалено 4000,0мл светлых околоплодных вод. Проводилась магнезиальная, антибактериальная, токолитическая, антианемическая терапия.
Через 48 часов после операции пациентка стала предъявлять жалобы на отеки лица, голеней, стоп, головную боль. Артериальное давление при осмотре 115/65 мм рт. ст. По данным амбулаторного обследования отмечалось нарастание тяжести анемии (гемоглобин 59 г/л), снижение гематокрита (0,195L/L), гипопротеинемия (общий белок 41,1 г/л, альбумин 22,9 г/л), нарастание титра трансаминаз (АЛТ 72,9 ЕД/л; АСТ 82,0 ЕД/л). Прокальцитониновый тест – отрицательный. Шизоциты в клиническом анализе крови не обнаружены. Протеинурия отсутствовала. По данным ультразвукового исследования сохранялся отек кожи и подкожно-жировой клетчатки головы и туловища плода-реципиента. Околоплодные воды обоих плодов – в пределах нормы, МВК плода-реципиента 7,5 см, МВК плода-донора 4,7 см. По данным эхографии в плевральных полостях у беременной определялась свободная жидкость.
Проводилась трансфузия эритроцитарной массы, противоанемическая терапия, инфузия раствора альбумина 20%, антикоагулянтная терапия.
На 10-е сутки после фетоскопии отмечалась положительная динамика состояния беременной и плодов. В клиническом анализе крови беременной – гемоглобин 93 г/л, гематокрит 0,309 L/L, тромбоциты 278×109/L. В биохимическом анализе крови – белок 49,2 г/л. Эхография плевральных полостей – остаточные явления гидроторакса, органов брюшной полости – видимой патологии не выявлено. Отек мягких тканей плода-реципиента не визуализировался, количество околоплодных вод в норме у обоих плодов, показатели фетального кровотока соответствовали нормативным значениям. В сроке беременности 24 недели 4 дня пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии.
В 27 недель гестации произведено экстренное кесарево сечение в связи с преждевременным излитием околоплодных вод. Родились живые, недоношенные мальчики массой 980 г, длиной 32 см и массой 840 г, длиной 31см, соответственно, оценка по шкале Апгар составила 5/7 баллов. Дети пролечены в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, позже в отделении патологии новорожденных, выписаны домой.
Клинический случай 2. Пациентка Б., 32 лет, поступила в ФГБУ НЦАГиП с диагнозом: Беременность 22 недели 3 дня. Монохориальная диамниотическая двойня. ФФТС стадия Quintero IV. Анемия беременных тяжелой степени (гемоглобин 65 г/л). Данная беременность вторая, наступила самопроизвольно, монохориальной двойней, в анамнезе преждевременные роды в 2005 году в сроке беременности 32 недели, ребенок массой при рождении 2200 г умер на вторые сутки. При поступлении проведено лабораторное обследование: группа крови A(II), Rh-положительный, антиэритроцитарные антитела отсутствуют, в клиническом анализе крови отмечался лейкоцитоз (19,26×109/L), анемия (гемоглобин 65 г/л), снижение гематокрита (0,28 L/L); по данным эхографического исследования: монохориальная диамниотическая двойня. Размеры плодов соответствуют сроку беременности 22–23 недели. ФФТС стадия Quintero IV – ангидрамнион и отсутствие визуализации мочевого пузыря плода-донора, многоводие плода-реципиента (МВК 12,6 см), отек мягких тканей плода-реципиента, нарушения фетального кровотока (снижение кровотока в пуповине плода-донора, реверсная А-волна в венозном протоке плода-реципиента).
Проведена фетоскопия, селективная лазерная фотокоагуляция сосудистых анастомозов плаценты. В условиях седации раствором тиопентала натрия 1%, под местной анестезией ропивакаином 75 мг, произведена лазерная фотокоагуляция 5 сосудистых анастомозов плаценты, амниоредукция 2500 мл светлых околоплодных вод. Проводилась антибактериальная, антианемическая терапия, магнезиальная терапия, течение первых 36 часов послеоперационного периода без особенностей.
На вторые сутки после операции пациентка пожаловалась на одышку, затруднение дыхания в положении лежа, боли за грудиной, отеки лица, голеней, стоп. При осмотре состояние средней тяжести, артериальное давление 110/60 мм рт. ст., пульс – 80 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения, тоны сердца ясные ритмичные, дыхание аускультативно везикулярное, ослаблено в нижних отделах, хрипов нет, сатурация – 94–96%. Данные лабораторного обследования: клинический анализ крови – лейкоцитоз (18,09×109/L), анемия (гемоглобин 73 г/л, гематокрит 0,23 L/L), тромбоциты 249×109/L; общий анализ мочи – протеинурия (50 мг/дл), биохимический анализ крови – гипопротеинемия (52,4 г/л), повышение креатинина (103,2 мкмоль/л), С-реактивный белок – 154 мг/л; тропониновый тест – отрицательный; гиперкоагуляция, активация внутрисосудистого свертывания крови. ЭКГ – ритм синусовый, правильный.
По данным функциональных методов исследования – двусторонний гидроторакс с компрессионными изменениями нижних долей легких, гидроперикард. При эхографическом исследовании размеры плодов соответствовали 23 неделям беременности. Околоплодные воды, мочевой пузырь плода-донора – не визуализируются, околоплодные воды плода-реципиента – в пределах нормы (МВК 6,9 см). Визуализируется отек мягких тканей головы и туловища, асцит плода-реципиента (свободная жидкость в брюшной полости). Сохраняются нарушения фетального кровотока.
По данным мультиспиральной компьютерной томографии признаков тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии не выявлено. Диагностировано: двусторонний гидроторакс с компрессионными изменениями нижних долей легких, признаки сосудистого полнокровия легких, гидроперикард, перегрузка правых отделов сердца за счет предсердия.
В отделении анестезиологии и реанимации продолжена антикоагулянтная терапия, а также терапия, направленная на коррекцию гипопротеинемии, анемии и отеков (альбумин 20%, лазикс, гемотрансфузия эритроцитарной взвеси).
На 5-е сутки по данным допплерометрии отмечалось ухудшение состояния плодов – «нулевой» диастолический кровоток в пуповине плода-реципиента, «реверсный» кровоток плода-донора.
В сроке беременности 23 недели 3 дня (7-е сутки после фетоскопии) диагностирована антенатальная гибель обоих плодов, произошли индуцированные преждевременные роды.
В раннем послеродовом периоде состояние пациентки и показатели лабораторно-инструментального обследования постепенно нормализовались. В клиническом анализе крови – лейкоциты 11,03×109/L; гемоглобин 126 г/л, гематокрит 0,392 L/L, тромбоциты 528×109/L. В биохимическом анализе крови – общий белок 65,8 г/л, креатинин 92,3 мкмоль/л. ультразвуковое исследование плевральной полости – остаточные явления гидроторакса. В общем анализе моче белок – 0,01 мг/дл. По данным эхокардиографии – полости сердца не расширены, легочной гипертензии не зарегистрировано, жидкости в полости перикарда и плевральных полостях не выявлено. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости – видимой патологии не выявлено.
На 5-е сутки после II ранних преждевременных самопроизвольных родов двойней в удовлетворительном состоянии выписана домой.
Обсуждение
Развитие зеркального синдрома при четвертой стадии ФФТС, для которой характерна водянка плода, является типичным примером «зеркального отражения» состояния плода. В 6–18% случаев ФФТС развивается четвертая стадия по классификации Квинтеро [16, 17]. Среди обследованных нами 137 беременных с ФФТС четвертая стадия наблюдалась в 7,3% (10) случаев. Частота зеркального синдрома составила – 1,5% (2), при этом при четвертой стадии она наблюдалась в 20% случаев. Данное наблюдение указывает на нередкое сочетание ФФТС и зеркального синдрома. Обычно зеркальный синдром возникает с 16-й по 34-ю неделю беременности. По данным литературы, наиболее ранняя манифестация чаще всего обусловлена ФФТС.
Патогенез зеркального синдрома остается неизвестным, в том числе, и при ФФТС. Существует несколько гипотез, объясняющих его возникновение. По данным ряда авторов повышение концентрации антиангиогенных факторов, таких как fms-подобная тирозин киназа 1 (sFlt-1) и растворимый эндоглин (sEng), может быть ответственным за развитие эндотелиальной дисфункции, которая, в свою очередь, лежит в основе патогенеза зеркального синдрома [18–21]. Повышение концентраций sFlt-1, sEng, и снижение концентрации плацентарного фактора роста в плазме беременной характерно для ФФТС [21]. В случае присоединения зеркального синдрома отмечалось более значимое повышение антиангиогенных факторов [19].
Водянка плода нередко сопровождается отеком плаценты. Отек ворсин хориона уменьшает межворсинчатое пространство и сужает сосуды ворсин, что приводит к снижению кровотока и гипоксии. Гипоксия трофобласта приводит к увеличению выработки и высвобождению sFlt-1 в материнский кровоток, что в свою очередь вызывает повреждение эндотелия.
В представленных нами случаях основными симптомами были отеки, гидроторакс, анемия, гипопротеинемия, повышение креатинина и трансаминаз, протеинурия. Случаи повышения артериального давления отмечены не были. Приведенные выше симптомы нередко напоминают преэклампсию или HELLP-синдром. Проблема дифференциальной диагностики зеркального синдрома и преэклампсии очевидна. Среди отличительных признаков зеркального синдрома можно выделить анемию, а также повышение мочевины и креатинина. Наличие гемодилюционной анемии можно объяснить увеличением объема циркулирующей крови, вызванным повышением концентрации вазопрессина и предсердного натрийуретического фактора в плазме [22].
Также для зеркального синдрома не характерно снижение количества тромбоцитов [23]. Главным отличительным признаком зеркального синдрома является наличие водянки плода, а в случае ее устранения разрешаются и симптомы зеркального синдрома. Такие изменения произошли при успешном лечении ФФТС, когда регресс отечного синдрома плода привел к нормализации состояния беременной, что описано нами в первом наблюдении. Симптомы зеркального синдрома были купированы на 10-е сутки после лазерной коагуляции сосудистых анастомозов плаценты. По данным литературы патологический симптомокомплекс купируется вскоре после устранения причины вызвавшей водянку плода или после прерывания беременности (в среднем 8–9 дней) [1]. K.D. Heyborne с соавт. показали, что разрешение зеркального синдрома происходит и в случае селективного фетоцида плода с водянкой [23]. По данным литературы частота внутриутробной гибели плодов достигает 80% [1, 13]. Приведенное нами второе клиническое наблюдение показало, что при антенатальной гибели плодов и прерывании беременности симптомы зеркального синдрома исчезли на 5-е сутки.
Заключение
Прогноз для здоровья матери и плодов при сочетании ФФТС и зеркального синдрома, как правило, неблагоприятный. Течение данного состояния, при отсутствии лечения, сопровождается высокой частотой гибели одного или обоих плодов, а также приводит к тяжелым нарушениям состояния беременной, что было показано в приведенных нами наблюдениях. Своевременно проведенная терапия – лазерная коагуляция сосудистых анастомозов плаценты, улучшающая состояние плодов, способна привести к пролонгированию беременности и улучшению клинического состояния женщины.