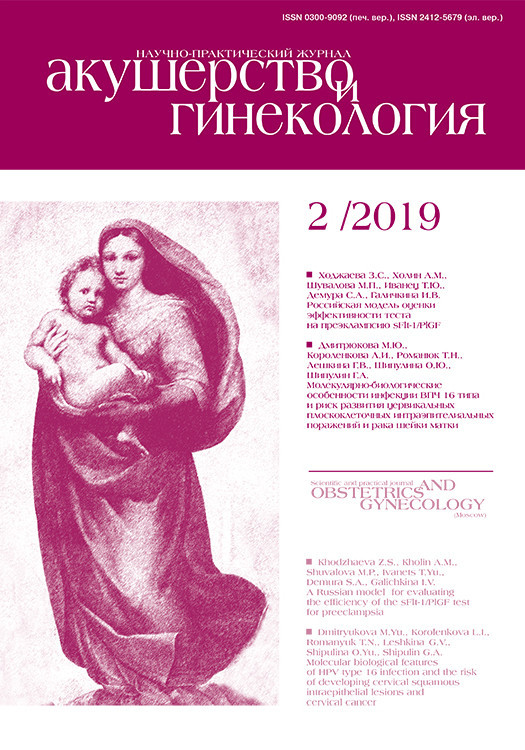Репродуктивные потери у женщин представляют серьезную проблему современного акушерства. Частота потерь клинически подтвержденных беременностей достигает 15% [1]. Около 2–5% женщин репродуктивного возраста страдают привычным невынашиванием беременности (ПНБ). Причина привычного выкидыша (ПВ) остается необъяснимой приблизительно у 50% супружеских пар [2]. Хотя у пациенток с ПНБ часто обнаруживаются аутоантитела разной специфичности, только антифосфолипидные антитела (аФЛ) четко ассоциируются с ПНБ, как у пациенток с аутоиммунными заболеваниями, так и в генеральной популяции. Антифосфолипидные антитела выявляются у 10% женщин с ПНБ, тогда как другие этиологические факторы ПНБ (генетические и анатомические) обнаруживаются суммарно у 5–15% пациенток [1]. От 7% до 25% случаев необъяснимого ПНБ на ранних сроках ассоциируются с наличием аФЛ [3].
Еще в 1983 году G.R.Hughes сформулировал концепцию синдрома, ассоциированного с тромбозом, выкидышами, церебральными нарушениями и волчаночным антикоагулянтом (ВА). Позже было показано, что с позитивным ВА ассоциируются не только антитела к кардиолипину (аКЛ), но и другие аФЛ. В 1987 году был введен в обращение термин «антифосфолипидный синдром» (АФС), а в 1999 году опубликованы предварительные Международные классификационные критерии АФС, сформулированные на VIII Международном симпозиуме по антифосфолипидным антителам в Саппоро (1998), согласно которым ПВ в сроке до 10 недель гестации относили к клиническим, а наличие ВА и аКЛ – к лабораторным классификационным критериям АФС.
В начале 1990-х годов было показано, что причиной тромбоза при АФС является не прямое, а белок-опосредованное взаимодействие аФЛ с анионными фосфолипидами, при этом в образование критических эпитопов для аФЛ вовлекаются фосфолипид-связывающие протеины, наиболее важным из них является β2-гликопротеин-I (β2-ГП-I). Кроме того, у пациентов, страдающих системной красной волчанкой (СКВ) и АФС, были идентифицированы антитела, взаимодействующие непосредственно с β2-ГП-I, иммобилизованным на отрицательно заряженной поверхности. Показано, что β2-ГП-I является главной мишенью аФЛ, а антитела к β2-ГП-I играют центральную роль в патогенезе АФС [4].
В 2006 году классификационные критерии АФС, принятые в Саппоро, были пересмотрены и дополнены рабочей группой, созданной на XI Международном конгрессе по аФЛ в Сиднее [5]. К лабораторным критериям АФС, действующим в настоящее время, относят наличие ВА, аКЛ (IgM, IgG; в концентрации выше 40 MPL-, GPL- Ед/мл или выше 99-го процентиля от нормы) и антител к β2-ГП-I (выше 99-го процентиля от нормы) в двух или более случаях при определении с интервалом не менее 12 недель. Повторное определение проводится для исключения транзиторной позитивности на аФЛ, связанной с инфекцией или другими причинами.
Клинические критерии АФС включают тромбоз сосудов разного калибра и локализации и осложнения беременности: три или более последовательных спонтанных аборта до 10-й недели гестации, необъяснимую гибель морфологически нормального плода после 10-й недели гестации, преждевременные роды до 34-й недели вследствие тяжелой преэклампсии или плацентарной недостаточности [3, 5]. Для постановки диагноза АФС необходимо сочетание, по крайней мере, одного клинического и одного лабораторного критерия АФС.
По данным Европейского регистра, в анамнезе у больных с акушерским АФС преобладают ПВ на ранних сроках (у 54%) и потери плода на поздних сроках (у 31%), реже наблюдаются мертворождение (у 1%), преждевременные роды (у 5,2%) или их комбинации (у 9% женщин) [6]. Во время беременности в 52,2% случаев возникают осложнения ее течения, среди фатальных осложнений часто отмечается выкидыш на раннем сроке (16,27%), а среди не фатальных – преждевременные роды (47,28%). В настоящее время акушерский АФС признается особой формой, отличной от сосудистого АФС [3, 6, 7]. Одновременно тромбоз и самопроизвольный выкидыш развиваются только в 2,5–5% случаев беременностей на фоне АФС [7]. Более высокий пороговый уровень аКЛ применяется для диагностики сосудистого АФС, а низкий – для акушерского АФС [8].
Определение аКЛ и антител к β2-ГП-I проводится с помощью твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) в соответствии с рекомендациями Международного общества по изучению тромбоза и гемостаза [9]. Для обнаружения аФЛ предлагается иммуноблоттинг, который отличается ориентированным расположением фосфолипидов на мембране из поливинилиденфторида, аналогичным таковому на мембранах живых клеток, и пригоден для исследования профиля аФЛ [10]. Для определения аКЛ, антител к β2-ГП-I и домену I β2-ГП-I создан автоматизированный хемилюминесцентный иммуноанализ, характеризующийся экспрессностью, высокой чувствительностью, специфичностью, точностью определения и хорошим совпадением результатов с ИФА [11].
Согласно современным представлениям, аФЛ – это большая гетерогенная популяция антител, мишенями которых являются анионные фосфолипиды (кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота), нейтральные фосфолипиды (фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин), фосфолипид-связывающие протеины плазмы (β2-ГП-I, аннексины, протромбин, протеин C, протеин S, кининогены, прекалликреин, тромбомодулин) и их комплексы с фосфолипидами, компоненты комплемента, факторы свертывания крови и другие. В связи с этим определение профиля аФЛ повышает эффективность диагностики АФС у больных, серонегативных на принятые лабораторные критерии синдрома.
Волчаночный антикоагулянт представляет собой гетерогенную группу аФЛ, включающую антитела к отрицательно заряженным фосфолипидам, которые пролонгируют in vitro время свертывания в фосфолипид-зависимых тестах коагуляции таких, как активированное частичное тромбопластиновое время и тест с разведенным ядом гадюки Рассела [12]. Термин «антикоагулянт» отражает удлинение тестов фосфолипид-зависимого свертывания, которое является следствием специфичности ВА к фосфолипидам и увеличения времени рекальцификации в анализах с ограниченным содержанием фосфолипидов. Специфичность антител ВА трудно определить в каждом отдельном случае, однако часть антител являются специфичными к протромбину и β2-ГП-I. Положительную реакцию на ВА связывают in vivo с тромботическими состояниями, повышенным риском тромбоцитопении, тромбоэмболии и потери беременности [7, 13].
Антикардиолипиновые антитела, как и ВА, ассоциируются с тромбозом, ПВ и обычно неблагоприятным исходом беременности [13]. Распространенность аКЛ в общей акушерской популяции составляет 1–5% [7], а у пациенток с отягощенным акушерским анамнезом – в диапазоне от 20 до 40% [3, 13]. Частота выявления ВА у женщин с невынашиванием беременности колеблется от 0 до 14% и в среднем составляет 8,3% [7]. По результатам мета-анализа, ВА и аКЛ (IgM, IgG) значимо ассоциируются с ПВ на ранних и/или поздних сроках. При этом ассоциация ВА с акушерской патологией является более выраженной, чем аКЛ [14]. Однако не все женщины, позитивные на ВА, подвержены потере беременности. Предиктивное значение для потери беременности у них имеют повышенные уровни антител к β2-ГП-I.
Антитела к β2-ГП-I являются независимым фактором риска ПВ на ранних сроках [15, 16]. Акушерские осложнения и неонатальные исходы у женщин с ПНБ, позитивных на антитела к β2-ГП-I, не зависят от наличия аКЛ или ВА. По сравнению с аКЛ или ВА, антитела к β2-ГП-I ассоциируются с низкой частотой живорождения и высокой частотой преэклампсии, задержки внутриутробного роста плода и мертворождения [17]. Антитела к β2-ГП-I являются важным маркером акушерского АФС, их выявление позволяет дополнительно диагностировать АФС у беременных с плохим акушерским исходом, негативных на ВА и аКЛ, провести лечение АФС и повысить частоту живорождения (более 90%).
У женщин с акушерским АФС, кроме высокого риска преэклампсии, опосредованных плацентой осложнений и неонатальной смертности, также отмечается повышенный риск тромботических событий. При этом наблюдается значительный риск первого тромбоза, который поддерживается персистенцией аФЛ [18]. Двойная или тройная позитивность на ВА, аКЛ и антитела к β2-ГП-I у носителей аФЛ является фактором риска тромбоза, особенно у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. При этом частота первого тромботического события в 2 раза выше, чем при одинарной позитивности. Тройная позитивность ассоциировалась с тромбозом в 87% случаев АФС [19].
Определение антител к β2-ГП-I имеет клиническое значение для идентификации высокого риска тромбоза при СКВ. У пациентов без СКВ аКЛ ассоциируются с повышенным риском артериального тромбоза, а ВА – как артериального, так и венозного тромбоза [20]. Более выраженную корреляцию с тромбозом проявляют аФЛ изотипа IgG, чем IgM [21]. B. de Laat и соавт. предложили тест для определения антител к β2-ГП-I с активностью ВА, которые являются ответственными за тромбоэмболические осложнения при АФС. В случае положительного результата данного анализа риск тромбоза в 3 раза выше, чем при положительном классическом тесте на ВА [22].
У женщин с необъяснимыми акушерскими осложнениями тройная позитивность на ВА, аКЛ и антитела к β2-ГП-I (IgM/IgG) была независимым фактором риска тромбоэмболии и неблагоприятного исхода последующей беременности. Неблагоприятные исходы беременности у пациенток с первичным АФС наблюдались чаще при положительных результатах двух и более лабораторных тестов [23]. При наличии нескольких аФЛ женщины имели низкую частоту живорождения. Шанс рождения жизнеспособного ребенка при тройной позитивности составлял 30% [17].
У женщин с акушерским АФС предшествующая потеря плода является фактором риска последующей повторной потери, преэклампсии, преждевременных родов и осложнений, обусловленных нарушениями формирования плаценты [24]. Женщины с ПВ и АФС имеют более высокий риск преэклампсии, осложнений, обусловленных патологией плаценты, и неонатальной смертности. История предшествующей внутриутробной гибели плода и наличие ВА ассоциируются с неблагоприятным исходом беременности, тогда как история преждевременных родов при наличии изолированных аКЛ и применении стероидов во время беременности ассоциируются с живорождением [25]. В связи с этим, при акушерском АФС необходима терапия, включающая профилактику поздних осложнений и соответствующая типу потери беременности и профилю аФЛ.
Кроме принятых в настоящее время лабораторных критериев АФС, в качестве перспективных маркеров АФС рассматриваются некоторые антитела к отрицательно заряженным фосфолипидам, фосфолипид-связывающим протеинам, факторам коагуляции (например, протромбину или комплексу фосфатидилсерин/протромбин), домену I β2-ГП-I, аннексину A5. Повышенный интерес фокусируется на поиске новых маркеров и создании более эффективных и специфических тестов для АФС, чем существующие.
Кроме аКЛ у пациентов с АФС идентифицируются антитела к отрицательно заряженным фосфолипидам другой специфичности, из них антитела к фосфатидилсерину (аФС) являются наиболее изученными при тромбозе и осложнениях беременности. По данным систематического обзора литературы (2018) у пациентов с установленным диагнозом АФС средняя частота выявления аФС классов IgG и IgM составляет 55% (29–87%) и 35% (16–65%) [26]. При этом более высокая распространенность аФС наблюдается при первичном, чем при вторичном АФС. Средняя распространенность аФС (IgG, IgM) при акушерском АФС составляет 5,4% и 21,6%, при тромботическом АФС – 45,9% и 28,6%. Однако независимая ассоциация между аФС и тромбозом и осложнениями беременности не найдена.
Предполагается, что использование для скрининга аФЛ панели фосфолипидов, включающей не только кардиолипины, но также фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол и другие отрицательно заряженные фосфолипиды, способствует более полной идентификации АФС у пациенток с ПНБ. Частота выявления антител к анионным фосфолипидам у последних выше, чем у здоровых женщин вне беременности или при физиологическом течении беременности. Повышенные титры антител к фосфатидилсерину и фосфатидилинозитолу или смеси фосфолипидов могут указывать на повышенный риск тромботических и акушерских проявлений АФС [27]. Важно отметить, что лечение беременных женщин с этими антителами гепарином и аспирином в большинстве случаев является эффективным и приводит к завершению беременности рождением жизнеспособных детей.
Кроме антител к отрицательно заряженным фосфолипидам, у пациенток с АФС часто выявляются антитела к фосфатидилэтаноламину (аФЭ), который относится к нейтральным фосфолипидам. В 1989 году H.L. Staub и соавт. впервые описали случай первичного АФС, при котором ВА сопровождался не аКЛ, а аФЭ, при этом активность ВА ингибировалась фосфатидилэтаноламином в гексагональной фазе. Было сделано предположение, что аФЭ могут представлять субпопуляцию ВА. В 90-х годах T. Sugi и соавт. показали, что аФЭ специфически взаимодействуют не только с фосфатидилэтаноламином, но и с фосфатидилэтаноламин-связывающими протеинами плазмы, а именно с кининогенами с высокой и низкой молекулярной массой, а также с протеинами, связывающими высокомолекулярный кининоген, с фактором XI, прекалликреином и протромбином. Фосфатидилэтаноламин индуцирует специфические конформационные изменения в кининогенах, распознаваемые аФЭ. Так как система калликреин-кининоген-кинин в репродуктивном тракте играет важную роль в регуляции гемостаза, ангиогенеза и защите от инвазивной бактериальной инфекции, аутоантитела, вызывающие нарушения в данной системе, могут ассоциироваться с потерей беременности [28].
Антитела к фосфатидилэтаноламину представляют независимый фактор риска венозного тромбоза и часто являются единственными аФЛ у пациентов с тромбозом. Недавно при «серонегативном» АФС с помощью метода тонкослойной хроматографии показана высокая частота выявления аФЛ, отличных от лабораторных критериев АФС (в 58,3% случаев), при этом в 30,5% случаев определялись аФЭ [29]. Выраженная ассоциация аФЭ с тромбозом предполагает необходимость их определения у пациентов, негативных на аКЛ, антитела к β2-ГП-I и ВА.
Большой научный интерес представляют исследования ассоциации аФЭ с осложнениями беременности. Антитела к фосфатидилэтаноламину ассоциируются с ранней потерей беременности и часто являются единственными обнаруженными аФЛ у пациенток с необъяснимым ПНБ на ранних сроках. Найдена строгая ассоциация между ПНБ и аФЭ, зависимыми от наличия кининогенов или других плазматических протеинов. По данным эпитопного картирования, мишеневым антигенным сайтом этих антител является LCD27 (Leu331-Met357) в третьем домене кининогенов, ответственном за связывание тяжелой цепи кининогена с тромбоцитами и эндотелиальными клетками. Предполагается, что аФЭ могут вызывать ПНБ вследствие нарушения антитромботического действия кининогенов [30].
Большинство исследований фокусировались на оценке аФЛ классов IgG и IgM, тогда как в немногочисленных исследованиях, посвященных изучению клинического значения аКЛ и антител к β2-ГП-I класса IgA, были получены противоречивые результаты. У пациентов с СКВ и АФС часто выявляются аФЛ класса IgA, в некоторых случаях IgA аβ2-ГП-I являются единственными обнаруженными аФЛ, тогда как IgA аКЛ обычно выявляются в асcоциации с IgG и IgM аКЛ. При СКВ повышенные уровни аКЛ и антител к β2-ГП-I класса IgA ассоциируются с тромбозом, IgA антитела к β2-ГП-I более строго, чем IgA аКЛ и IgM антитела к β2-ГП-I [31]. В связи с этим предлагается включить IgA антитела к β2-ГП-I в лабораторные критерии АФС для пациентов, страдающих СКВ.
Кроме того, у женщин с системными аутоиммунными заболеваниями аФЛ класса IgA ассоциируются с акушерскими осложнениями. IgA антитела к β2-ГП-I часто выявляются при необъяснимом ПВ или гибели плода, при этом между уровнями IgA и IgG антител к β2-ГП-I наблюдается значительная корреляция. Предполагается, что определение IgA антител к β2-ГП-I у таких женщин позволит дополнительно идентифицировать АФС, не выявленный традиционными тестами.
В многоцентровом исследовании показано, что изолированная позитивность на IgA антитела к β2-ГП-I ассоциируется с повышенным риском тромбоза, как артериального, так и венозного [32]. У 77% пациентов, позитивных на IgA антитела к β2-ГП-I, наблюдались клинические признаки АФС. На мышиной модели тромбоза in vivo продемонстрировано, что IgA антитела к β2-ГП-I индуцировали более высокое тромбообразование и повышение уровня тканевого фактора, по сравнению с контрольным препаратом IgA. Тестирование на IgA антитела к β2-ГП-I рекомендовано при подозрении на АФС у пациентов, серонегативных на другие аФЛ. Однако эффективность дополнительного тестирования на IgA аКЛ и антител к β2-ГП-I не подтвердилась из-за их низкой распространенности и ассоциации с другими аФЛ [33].
Систематический обзор 2015 года продемонстрировал у пациентов с АФС высокую распространенность разных аФЛ, не включенных в лабораторные критерии синдрома, по сравнению с контрольной группой [34]. К наиболее распространенным антителам относятся IgA антитела к β2-ГП-I, их распространенность у больных АФС составляет 56,3%, в группе сравнения с другими аутоиммунными заболеваниями – 34,4%, в контрольной группе – 13,1%, тогда как распространенность IgA аКЛ в этих группах – 20,9, 5,4 и 2,8%, соответственно. Однако для оценки клинического значения этих антител требуются дальнейшие проспективные исследования.
В конце 1990-х годов исследования фокусировались на идентификации в молекуле β2-ГП-I сайтов связывания специфических антител. Хотя антитела к β2-ГП-I могут связываться с каждым из пяти доменов β2-ГП-I, иммунодоминантный эпитоп локализуется в домене I и является зависимым от конформационной структуры молекулы β2-ГП-I. В циркулярной форме β2-ГП-I главный эпитоп спрятан в результате взаимодействия домена I с доменом V, а в открытой форме в J-конфигурации он экспонируется и становится доступным для связывания с антителом. Некоторые факторы, например, оксидативный стресс, могут приводить к экспонированию на поверхности молекулы β2-ГП-I криптического эпитопа B-лимфоцитами. Важно отметить, что у пациентов с АФС отмечается более высокий уровень окисленного β2-ГП-I в плазме, чем у асимптомных носителей аФЛ и здоровых доноров [35].
Взаимодействие с фосфолипидной поверхностью клеток-мишеней приводит к изменению конформации β2-ГП-I, при котором криптический эпитоп экспонируется и становится доступным для специфических антител. В связи с тем, что иммунологическая толерантность к криптическому домену I не развивается, образование специфических аутоантител к домену I запускается более легко, чем к другим доменам [36].
Антитела к домену I β2-ГП-I выявляются чаще при первичном АФС, чем при вторичном, наблюдается строгая взаимосвязь между антителами к домену I и позитивным тестом на ВА, наличие антител к домену I ассоциируется с тромботическими событиями, как в венозном, так и в артериальном сосудистом русле [37]. Результаты многоцентрового исследования продемонстрировали более выраженную взаимосвязь антител к домену I с тромбозом и осложнениями беременности, по сравнению с антителами к β2-ГП-I, определяемыми с помощью стандартного анализа.
По данным недавнего систематического обзора, распространенность IgG антител к домену I β2-ГП-I составляет у пациентов с АФС 44%, в группе сравнения с другими аутоиммунными заболеваниями – 31,6%, у здоровых доноров – 3,3% [34]. В отличие от больных АФС, у носителей аФЛ сывороточные IgG антитела к β2-ГП-I распознают преимущественно эпитопы доменов IV и V. Предполагается, что соотношение между антителами к домену I и доменам IV и V может быть использовано для дифференциации патогенных и непатогенных антител к β2-ГП-I [38]. Высокая частота и титры антител к домену I β2-ГП-I наблюдались у пациентов с высоким риском развития осложнений и тройной позитивностью на аФЛ [39]. В связи с этим предполагается, что IgG антитела к домену I могут повысить предиктивное значение профиля аФЛ и являются полезными для стратификации пациентов с АФС по риску осложнений.
Показана высокая распространенность антител к аннексину A5 (аАн A5) у женщин с ПНБ по сравнению со здоровыми женщинами, ассоциация этих антител с первой ранней потерей беременности. У женщин с ПВ, позитивных на аФЛ, отмечается повышение уровня Ан A5 в плазме на 6-й и 8-й неделе беременности. Предполагается, что аФЛ могут вытеснять Ан A5 с отрицательно заряженной фосфолипидной поверхности синцитиотрофобласта и, таким образом, способствовать активации коагуляции крови в сосудах плаценты [40]. Показано, что IgG аАн A5 играют важную роль в развитии состояния гиперкоагуляции, как при первичном, так и при вторичном АФС [41].
Антитела к Ан A5 часто выявляются у пациенток c ПВ на ранних сроках, серонегативных на аКЛ и β2-ГП-I (в 25% случаев), и являются независимым фактором риска данной патологии [16]. Антитела к Ан A5 представляют перспективный серологический маркер акушерского АФС, в связи с этим существует необходимость определения этих антител в рутинной практике при обследовании женщин с ПНБ [16, 42]. В некоторых исследованиях IgM аАн A5 ассоциируются с более высоким риском ПВ, чем IgG [43]. По данным M. Becarevic и соавт., ПНБ ассоциируется с двойной позитивностью на IgM аАн A5 и ВА или тройной позитивностью на IgM антитела к Ан A5, β2-ГП-I и ВА [44].
С помощью функционального теста, созданного в лаборатории J.H. Rand, у пациентов с АФС и сосудистым тромбозом была выявлена резистентность к антикоагулянтной активности Ан A5, которая признается патогенетическим механизмом развития тромбоза. В то же время резистентность к антикоагулянтной активности Ан А5 была обнаружена у 52% пациенток с акушерским АФС и лишь у 2–5% здоровых доноров [45]. При этом у женщин с ПНБ отмечался низкий уровень Ан A5 в плазме и снижение способности Ан A5 к связыванию с отрицательно заряженными фосфолипидами. Эти данные поддерживают концепцию о важном значении Ан A5 для сохранения беременности. Резистентность к антикоагулянтной активности Ан A5 при акушерском АФС часто наблюдается одновременно с повышенным уровнем IgG антител к домену I β2-ГП-I и рассматривается как возможный механизм потери беременности, ассоциированный с аФЛ [46].
Антитела к протромбину были впервые обнаружены у пациентов с положительным ВА. Распознавание протромбина антителами в ИФА в значительной степени зависит от формы, в которой антиген представлен на твердой фазе. Антитела связываются с протромбином, иммобилизованным на полистирольных планшетах, облученных рентгеновскими лучами (аПТ), или с комплексом фосфатидилсерин/протромбин (аФС/ПТ), образованным на твердой фазе в присутствии ионов кальция, в котором протромбин подвергается конформационному изменению Антитела к протромбину и аФС/ПТ относятся к различным популяциям аутоантител и могут обнаруживаться у одного пациента одновременно. При этом аФС/ПТ строго коррелируют с активностью ВА и имеют диагностическую значимость для АФС подобную таковой аКЛ [47], тогда как аПТ характеризуются низкой распространенностью в когорте пациентов с ВА по сравнению с антителами к β2-ГП-I и не ассоциируются с клиническими признаками АФС [48].
Наличие аФС/ПТ ассоциируется с тромботическими проявлениями АФС у пациентов с системными аутоиммунными заболеваниями, особенно при негативных рутинных тестах. Кроме ассоциации с венозным тромбозом и активностью ВА, сообщается, что аФС/ПТ являются строгим независимым фактором риска акушерских осложнений в этой когорте пациенток [49]. Важность аФС/ПТ как диагностического маркера АФС, поддерживается обнаружением этих антител у пациентов с подозрением на АФС, серонегативных на лабораторные критерии синдрома [50]. В то же время аФС/ПТ часто выявляются при тройной позитивности на критерии АФС. Тестирование возможных комбинаций шести аФЛ показало, что профиль, включающий ВА, антитела к β2-ГП-I и аФС/ПТ, имеет лучшую диагностическую чувствительность и специфичность, как для АФС, так и для тромбоза и потери беременности [51]. Хотя оба вида антител к протромбину повышают риск тромбоза, наличие аФС/ПТ сопряжено с более высоким риском артериального и венозного тромбоза, чем наличие аПТ [52].
Недавно в международном мультицентровом исследовании показано, что определение IgG аФС/ПТ имеет высокую диагностическую значимость как для сосудистого, так и для акушерского АФС [53]. При определении клинически значимых тестов для акушерского АФС тест на IgG аФС/ПТ признан пригодным для использования в рутинной практике для обследования пациенток с ПНБ [54]. Так как аФС/ПТ могут быть единственными аФЛ у пациенток с клиническими признаками АФС, их определение может способствовать более полной идентификации АФС.
Для диагностики АФС женщинам с осложненным акушерским анамнезом в период планирования или на ранних сроках беременности проводят определение ВА, аКЛ и антител к β2-ГП-I классов IgM и IgG с последующим подтверждением положительного результата в повторном исследовании с интервалом не менее 12 недель. В случае отрицательных результатов тестов дополнительно исследуют аФЛ другой специфичности, прежде всего аАн A5, аФС/ПТ и аФЭ. Выявление серологических маркеров на ранних сроках беременности имеет более высокое предиктивное значение, чем до беременности и обеспечивает лучшую стратификацию женщин по риску неблагоприятных исходов [55]. Снижение титра аФЛ во время беременности коррелирует с благоприятным исходом. Кроме выявления аФЛ, у женщин с акушерским АФС почти в 50% случаев находят снижение уровня компонентов комплемента (C3, C4), что свидетельствует об активации системы комплемента по классическому пути, которая играет важную роль в патогенезе акушерского АФС [6].
Современные стандарты лечения АФС базируются, главным образом, на антитромботической и антиагрегантной терапии [13, 25, 56]. При использовании комбинации низкой дозы аспирина и низкомолекулярного гепарина частота живорождения достигает 70–80% [56, 57]. При высокой активности аутоиммунного процесса на этапе подготовки к беременности используется эфферентная терапия (плазмаферез) с последующим применением препаратов иммуноглобулинов для внутривенного введения [56, 58]. Однако пациентки с показателями высокого риска такими, как тройная позитивность и высокие титры аФЛ, часто имеют плохой ответ на традиционную терапию. При рефрактерном АФС комплексная терапия, включающая применение кортикостероидов в низких дозах, является успешной у 90–95% беременных [25, 56]. Имеются доказательства важности дополнительного лечения пациенток высокого риска, например, с использованием иммуномодулятора гидроксихлорохина или таргетной терапии экулизумабом при активации системы комплемента, однако требуется проведение проспективных исследований для подтверждения их эффективности и безопасности во время беременности [55, 57].
Заключение
Таким образом, опубликованные данные демонстрируют значительную ассоциацию между клиническими проявлениями АФС и рядом аФЛ, среди которых, кроме лабораторных критериев АФС – аАн A5, аФЭ и аФС/ПТ. Определение профиля аФЛ может способствовать более полной идентификации пациентов с АФС и точной стратификации риска тромбоза или осложнений беременности. Предлагаются новые маркеры АФС, однако практическое использование тестов на аФЛ затрудняется из-за отсутствия стандартизации, а для определения клинического значения аФЛ требуются проспективные исследования. Несмотря на ограниченные возможности терапии АФС, многообещающими являются идентификация и исследование новых потенциальных мишеней для терапевтического воздействия, связанных с патогенезом синдрома. Необходим персонифицированный подход к выбору тактики ведения больных АФС с учетом клинических проявлений, активности аутоиммунного процесса и профиля аФЛ.