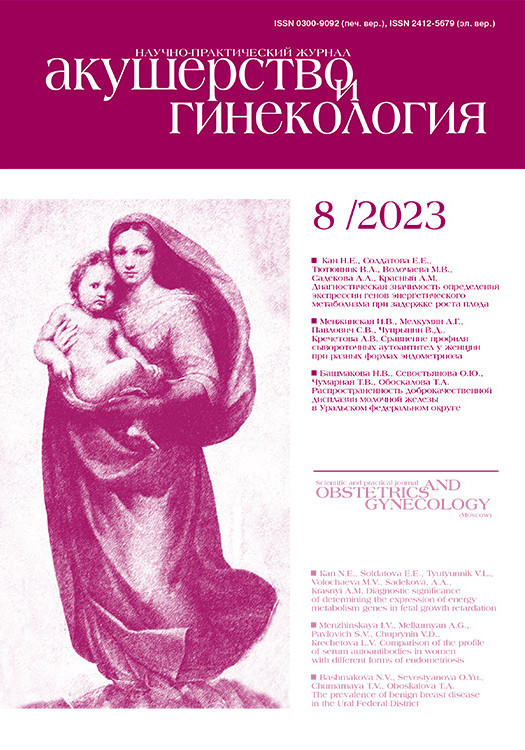После снижения содержания половых гормонов в организме женщины формируется шлейф нейровегетативных и обменных нарушений, с которыми женщина не должна оставаться одна. Хорошо известно, что наступление периода менопаузального перехода и постменопаузы ассоциировано не только с классическими климактерическими симптомами, но и с развитием или ухудшением течения многих соматических заболеваний. Большинство пациентов ревматолога – это женщины.
В контексте менопаузы в ревматологии существует ряд актуальных вопросов. Во-первых, ряд ревматических заболеваний развивается или изменяет свое течение с наступлением менопаузы. Во-вторых, наступление менопаузы может быть ассоциировано с появлением или усилением суставных болей. В-третьих, течение и лечение ревматических заболеваний может сопровождаться ранней и преждевременной менопаузой. В-четвертых, иммуновоспалительные ревматические заболевания и постменопауза ассоциированы с развитием остеопороза. Наконец, существуют трудности в назначении менопаузальной гормонотерапии (МГТ) при ревматических заболеваниях, в первую очередь из-за возможного увеличения риска развития ее специфических осложнений (в первую очередь тромбозов).
Вместе с тем нужно понимать, что патогенез ревматических заболеваний крайне гетерогенен, и зачастую один и тот же препарат МГТ может оказывать принципиально разные плейотропные эффекты на ревматические заболевания. Настоящая публикация адресована в первую очередь практикующим врачам-гинекологам с целью увеличения знаний в области ревматологии, необходимых при решении вопроса о возможности назначения МГТ у пациенток с сопутствующей ревматической патологией.
Суставная боль и менопауза
Дефицит эстрогенов может сопровождаться появлением или усилением боли в суставах. В исследовании Women’s Health Initiative study (WHI) среди 16 608 участниц встречаемость хронической мышечно-скелетной боли достигала 20%; при этом женщины, принимавшие МГТ хотя бы в течение 1 года, в среднем значимо реже жаловались на данный симптом [1]. В то же время женщины, получавшие комбинацию конъюгированного эквинного эстрогена 0,625 мг/сут + медроксипрогестерона ацетат 2,5 мг/сут, более часто сообщали об улучшении симптоматики суставной боли и скованности, по сравнению с группой, получавшей плацебо (47,1% против 38,4%; отношение шансов (ОШ) 1,43; 95% ДИ 1,24–1,64; p<0,001). В другом исследовании среди женщин азиатской популяции в возрасте 44–55 лет (n=2125) суставная боль или скованность встречались в среднем в каждом четвертом случае и значимо чаще отмечались у женщин в постменопаузе в сравнении с женщинами с сохраненным менструальным циклом [2].
Отмечено, что важным фактором возникновения хронической мышечно-скелетной боли является стремительность возникновения дефицита эстрогенов, которая может быть обусловлена хирургическим вмешательством (пангистерэктомия), прекращением приема МГТ, а также при применении антиэстрогенных препаратов при лечении злокачественных новообразований молочной железы. Так, по данным японского исследования, среди 329 пациенток, получавших ингибиторы ароматазы (анастрозол или эксеместан), в среднем уже через 6 месяцев от начала терапии 27% отметили появление выраженных артралгий, что в ряде случаев служило причиной отмены данных препаратов [3].
В исследовании АТАС (n=5433), в ходе которого сравнивались эффективность и безопасность двух антиэстрогенных препаратов – анастрозола и тамоксифена, появление болей в суставах отмечалось у 36,5 и 30,9% пациенток. При этом предшествующий анамнез по проведению МГТ, который прекращен на время химиотерапии, ассоциировался с более частым появлением артралгий – 40,6 и 28,4% (p<0,0001) [4].
Анальгетическое действие эстрогенов может быть обусловлено присутствием эстрогеновых рецепторов и фермента ароматазы в центральной нервной системе (ЦНС). Согласно экспериментальным работам, оба типа эстрогеновых рецепторов широко представлены в ЦНС – в ядрах тройничного нерва, задних корешков спинного мозга, а также в областях мозга, отвечающих за модуляцию стресса, тревоги и боли. На уровне ЦНС действие эстрогенов способно активировать нисходящие антиноцицептивные пути (в том числе эндорфиновую систему) и подавлять афферентацию адренергической системы, определяющую передачу болевых сигналов [5].
Еще одним потенциальным механизмом регуляции боли является влияние эстрогенов на воспаление. Показано, что под действием эстрогенов ингибируется синтез провоспалительных цитокинов (интерлейкинов-1, -6, фактора некроза опухоли), а также активность клеток неспецифического иммунитета [6].
Косвенным подтверждением влияния эстрогенов на восприятие боли является фибромиалгия – заболевание, характеризующееся распространенной болью, утомляемостью, психоэмоциональными проблемами, нарушением сна и когнитивных функций. Отмечено, что данное заболевание встречается до 10 раз чаще у женщин, а пик дебюта фибромиалгии приходится на возраст, соответствующий перименопаузе (45–50 лет). При этом женщины с эндокринными нарушениями, сопровождающимися ранней менопаузой, или перенесшие пангистерэктомию, более склонны к развитию фибромиалгии, чем женщины с естественной менопаузой [7].
Остеоартрит и менопауза
Остеоартрит (ОА) является самым распространенным заболеванием суставов и ведущей причиной потери трудоспособности среди взрослого населения. В основе развития заболевания лежит множество факторов, среди которых: возраст (первичный ОА, то есть ОА не после травмы и не на фоне системного заболевания, крайне редко развивается в возрасте до 40 лет), женский пол (в первую очередь это актуально для ОА коленных суставов и мелких суставов кистей), метаболический синдром, регулярные неадекватные физические нагрузки и т.д. Большинство больных ОА – женщины в постменопаузе. В исследовании WHI было отмечено, что 44% женщин в постменопаузе имеют проявления ОА, и его встречаемость положительно коррелирует с индексом массы тела [8]. Кроме того, отмечено, что скорость потери хрящевой ткани после 50 лет значимо больше у женщин по сравнению с мужским полом [9].
Лечение ОА предусматривает комплексный подход с модификацией образа жизни, назначением болезнь-модифицирующих препаратов замедленно действия (так называемых хондропротекторов), а также коррекцию сопутствующих состояний, способных усугублять поражение суставов. Влияние эстрогенов на ОА было показано в исследованиях генетических полиморфизмов эстрогеновых рецепторов. Так, полиморфизм в гене ERα может быть ассоциирован с риском тяжелого ОА крупных суставов нижних конечностей [10], а генотип ERα PpXx был связан с генерализованным ОА (ОШ 1,86; 95% ДИ 1,03–3,24) [11].
Влияние эстрогенов на структурные компоненты сустава в целом можно охарактеризовать как анаболическое и противовоспалительное. Эстрогены стимулируют синтез структурных компонентов хряща, увеличивая экспрессию трансформирующего фактора роста β и инсулиноподобных факторов роста I и II, уменьшают субхондральную резорбцию костной ткани, а также ингибируют такие воспалительные пути, как NF-κB, циклооксигеназный, снижает активность синтетазы оксида азота [12]. Кроме того, положительные эффекты эстрогенов в отношении абдоминального ожирения также могут быть положительным фактором в течении ОА. Наконец, вышеописанный модулирующий эффект эстрогенов на проведение и восприятие болевого импульса также актуален для пациентов с ОА, испытывающих хроническую мышечно-скелетную боль [5].
О влиянии менопаузы и МГТ на развитие и течение ОА опубликовано ряд исследований. На сегодняшний день получены противоречивые данные о взаимосвязи ранней менопаузы и риска развития или более тяжелого течения ОА. Интересно, что проведение пангистерэктомии в анамнезе ассоциировалось с более высоким общим риском развития ОА, а также более частой встречаемостью артроза коленных и первых запястно-пястных суставов [12, 13].
Наиболее важным критерием эффективности метода воздействия на течение ОА является снижение риска эндопротезирования суставов. Результаты исследований влияния МГТ на течение ОА и риск артропластики собраны и подробно отражены в обзоре Hussain S.M. et al. [14]. В основном эти результаты носят разнонаправленный характер как для ОА коленных и тазобедренных суставов, так и для ОА мелких суставов кистей, однако в рекомендациях международного общества по менопаузе [15] отмечено, что применение МГТ может уменьшить суставную и мышечную боль, а также об отсутствии достоверных данных о положительном или отрицательном влиянии МГТ на риск ОА (уровень доказательности 1+). В то же время применение МГТ может способствовать уменьшению потери суставного хряща и риска эндопротезирования суставов [сильная рекомендация (А)].
Таким образом, ОА является заболеванием, по которому накоплена наибольшая исследовательская база влияния МГТ на его течение. С учетом отсутствия увеличения риска специфических осложнений МГТ, связанных с патогенезом ОА, применение МГТ при наличии показаний может быть использовано и с расчетом на возможный положительный эффект для суставов.
Подагра и менопауза
Подагра является наиболее распространенным воспалительным заболеванием суставов и характеризуется рецидивирующими подагрическими приступами артрита/бурсита/теносиновита у лиц с гиперурикемией. Несмотря на то что большинство пациентов с подагрой – мужчины, в эпидемиологии и клинической картине подагры у женщин есть свои особенности. Так, за исключением наследственных форм и лекарственно-индуцированной подагры (в первую очередь за счет приема петлевых диуретиков), нарушения пуринового обмена с развитием приступов артрита у женщин в основном развиваются в постменопаузе [16]. По данным отечественного исследования, среди 51 женщины с подагрой средний возраст дебюта составил 47 лет, а 59% пациенток уже находились в постменопаузе [17]. С другой стороны, важным вкладом в более низкую распространенность подагры среди женщин вносит и нетипичность клинической картины, а именно преимущественное поражение суставов верхних конечностей, что может затруднять постановку диагноза. Разумеется, не только дефицит половых гормонов является фактором более частой распространенности подагры в постменопаузе; важную роль играет сопутствующая коморбидная патология, в первую очередь артериальная гипертензия и инсулинорезистентность, а также поражение почек.
Протективный эффект эстрогенов у женщин при подагре обусловлен двумя механизмами: урикозурическим и противовоспалительным. Урикозурический эффект связан с влиянием эстрогенов на экскрецию мочевой кислоты путем модуляции экспрессии уратных транспортеров в почках – основном органе, регулирующем содержание мочевой кислоты в крови. Противовоспалительный эффект эстрогенов обусловлен способностью ингибировать активацию лейкоцитов кристаллами моноурата натрия, тормозя таким образом развитие подагрического воспаления [16]. Гипоурикемический эффект был показан в нескольких исследованиях, в том числе в ретроспективном анализе NHANES III, где применение МГТ в анамнезе ассоциировалось с более низким уровнем мочевой кислоты (в среднем на 0,24 мг/дл; 95% ДИ 0,11–0,36) [18].
Влияние МГТ на риск развития подагры было проанализировано в двух крупных исследованиях. В ретроспективном анализе исследования The Nurses’ Health Study женщины, получавшие МГТ (как моно-, так и комбинированную терапию) хотя бы в течение 1 года, имели более низкий шанс развития подагры (скорректированный ОР 0,82; 95% ДИ 0,7–0,96) [19]. В другом крупном исследовании применение комбинированной МГТ, но не монотерапии эстрогенами сопровождалось значимым снижением риска развития подагры, что говорит возможном вкладе гестагенного компонента [20]. С учетом имеющихся на сегодняшний день данных, можно предположить, что именно применение метаболически нейтральных гестагенов может приводить к такому эффекту. Интересно, что в данном исследовании применение норэтистерона ацетата, медроксипрогестерона ацетата в качестве гестагенного компонента, а также тиболона ассоциировалось со снижением риска подагры, что требует дальнейшего уточнения в проспективных исследованиях.
В целом назначение МГТ при наличии климактерических нарушений у пациенток с сопутствующей подагрой имеет очень большой положительный потенциал с точки зрения метаболических и противовоспалительных эффектов эстрогенов при данном заболевании.
Ревматоидный артрит и менопауза
Ревматоидный артрит (РА) является хроническим иммуновоспалительным заболеванием суставов с возможным вовлечением других органов и систем, в отсутствие лечения, как правило, приводящим к необратимому деструктивному поражению суставов верхних конечностей, с развитием устойчивой функциональной недостаточности. Для данного заболевания, как и для другой ревматической патологии, характерно преобладание женщин (в среднем женщины страдают РА в 3 раза чаще), а «гребень» возраста дебюта приходится на 40–60 лет [21].
Одним из факторов, влияющих на активность РА, является репродуктивный статус женщины. Так, отмечено, что во время беременности более 60% женщин отмечают улучшение течения РА, снижение дозы или потребности в базисной противовоспалительной терапии; в то же время послеродовой период, как правило, сопровождается обострением, а также в целом характеризуется более высоким риском развития РА у здоровых женщин; в то время как ранняя менопауза является независимым фактором риска развития серонегативного РА [22].
В связи с появлением в последние 10 лет большого количества новых генно-инженерных биологических препаратов, а также ингибиторов JAK-киназ все большее число пациентов способно достичь ремиссии РА. В последние годы выделен отдельный фенотип заболевания – резистентный, или труднолечимый, РА (difficult-to-treat RA) [23]. В основных рекомендациях по ведению пациентов с трудно поддающимся лечению РА указано на необходимость выявления и коррекции сопутствующих состояний, который могут влиять на боль при РА и достижение ремиссии, в первую очередь – на ожирение и фибромиалгию (оба заболевания у женщин чаще встречаются именно в пери- и постменопаузе) [24].
Кроме того, были проведены исследования касательно овариального резерва при РА. В двух исследованиях, включавших суммарно 242 женщины с РА без анамнеза использования терапии циклофосфамидом и других препаратов, способных влиять на овариальный резерв, отмечались значимо более низкие показатели антимюллерова гормона, по сравнению с контрольной группой [25, 26].
Учитывая возраст дебюта РА, а также взаимосвязь между репродуктивным статусом женщины и активностью заболевания, актуальным является вопрос о влиянии МГТ на риск развития и динамику течение РА. По данным ретроспективного анализа WHI, прием МГТ в анамнезе как в виде монотерапии эстрогенами, так и в комбинации с медроксипрогестерона ацетатом сопровождался статистически незначимым снижением риска развития РА (ОР 0,74; 95% ДИ 0,51–1,10); однако следует отметить, что распространенность РА в данном исследовании была в 2 раза ниже по сравнению с общепопуляционными показателями [27]. Кроме того, существовала тенденция к увеличению этой разницы уже на второй год приема МГТ, а в дальнейшем данный эффект был более выражен именно для монотерапии эстрогенами. Результаты корейского аналога NHANES показали схожие результаты (ОШ развития РА 0,80; 95% ДИ 0,62–1,04; р=0,09) [28]. Однако, по результатам анализа данных из шведского исследования EIRA, показано, что применение комбинированной МГТ, но не монотерапии эстрогенами ассоциировалось со значимым снижением риска развития АЦЦП-позитивного РА (ОШ 0,6; 95% ДИ 0,3–0,9), и данный эффект был наиболее выражен в возрастной группе 50–59 лет [29].
Влияние МГТ на течение РА было изучено в ряде исследований, где среди 88 пациенток с РА проводилось изучение терапии трансдермальным эстрадиолом (50 мкг/сут) в комбинации с норэтистерона ацетатом в сравнении с препаратами кальция и витамина D на показатели минеральной плотности и костного обмена, где ожидаемо были получены более выраженные положительные результаты в группе МГТ. Однако в подгруппе с «хорошим ответом на МГТ» (повышение уровня эстрадиола крови более 100 пмоль/л у 58,4%) через 6 месяцев были отмечены и положительные эффекты на течение РА, а именно значимое снижение индексов активности РА (DAS28), уровня СОЭ, а также субъективных показателей оценки боли и скованности. Кроме того, повышение уровня эстрадиола на фоне применения МГТ ассоциировалось с более низкими показателями интерлейкина-6 [30].
Более крупный ретроспективный анализ трех исследований, включавших 4474 женщины с РА, получавших лечение тоцилизумабом и/или традиционные базисные противовоспалительные препараты (метотрексат, лефлуномид и т.д.), показал, что женщины в перименопаузе имели значимо более низкие шансы достижения ремиссии в сравнении с пациентками в репродуктивном периоде (скорректированное ОР 0,78; 95% ДИ 0,61–0,99); однако прием экзогенных эстрогенов в пери- или ранней постменопаузе был ассоциирован в большим шансом достижения ремиссии РА (скорректированное ОР 1,20; 95% ДИ 1,01–1,43), в то время как для поздней менопаузы данного эффекта не отмечалось [31].
Таким образом, для уточнения значимости влияния МГТ на течение РА необходимы дальнейшие проспективные исследования с более крупными выборками, однако уже имеющиеся результаты имеют весьма обнадеживающий характер в плане комплексного подхода ведения женщин с РА.
Системная красная волчанка и менопауза
Системная красная волчанка (СКВ) является классической моделью аутоиммунного заболевания, которое поражает преимущественно женщин. Редкость дебюта СКВ до полового созревания и в постменопаузе, а также ухудшение течения заболевания во время беременности актуализирует вопрос влияния женских половых гормонов на его патогенез [32]. Отмечено, что определенные полиморфизмы в генах эстрогеновых рецепторов могут быть ассоциированы с более ранним или более поздним развитием СКВ и определенным спектром клинических проявлений [33, 34]. Кроме того, отмечено, что при дебюте СКВ в постменопаузе отмечаются менее выраженные внутриорганные поражения и кожные проявления, однако чаще встречаются поражение легких, синдром Шегрена и серозиты [32].
Фактическое применение МГТ при СКВ остается низким, что связано с опасениями риска обострения ревматического заболевания, а также с повышенным риском тромбозов, особенно при наличии сопутствующего антифосфолипидного синдрома. Однако отмечено, что применение МГТ при СКВ относительно безопасно, поскольку низкие дозы эстрадиола имеют значимо меньшую силу эффекта по сравнению с этинилэстрадиолом в оральных контрацептивах (примерно в 6 раз) [35]. В настоящее время Американской коллегией ревматологов (ACR) и Европейской антиревматической лигой (EULAR) сформированы рекомендации по ведению гинекологической патологии и репродуктивных аспектов у женщин с СКВ [36, 37]. В обеих публикациях допускается применение трансдермальных форм эстрадиола при наличии выраженных проявлений климактерического синдрома при условии низкой активности или ремиссии СКВ в отсутствие выявления антифосфолипидных антител. Влияние МГТ на риск обострения СКВ наиболее полно представлено в обзоре исследований международных баз с 1982 по 2012 гг., где отмечено, что в целом применение комбинированных оральных контрацептивов и МГТ не приводит к клинически значимому увеличению активности СКВ [38].
Важным гинекологическим аспектом СКВ остается вероятность ранней и преждевременной менопаузы, что может быть обусловлено как терапией циклофосфамидом, так и аутоиммунным компонентом. В целом проведенные исследования показывают, что при СКВ менопауза в большинстве случаев своевременная, однако в целом раннее ее наступление встречается чаще, чем в общей популяции (более 10% пациенток), и в первую очередь связано с терапией циклофосфамидом [32].
Таким образом, само по себе наличие СКВ является фактором риска различных нарушений, развивающихся или усугубляющихся в постменопаузе, таких как остеопороз и метаболический синдром. При наличии показаний и в отсутствие противопоказаний назначение МГТ с целью купирования тяжелых проявлений климактерического синдрома может играть важную роль в улучшении дальнейшего качества жизни пациентки. Актуальным вопросом остается поиск предикторов, позволяющих достоверно спрогнозировать увеличение активности СКВ после назначения экзогенных эстрогенов.
Системная склеродермия и менопауза
Системная склеродермия (ССД) является редким системным заболеванием соединительной ткани, в основе которого лежат аутоиммунные реакции с выработкой специфических аутоантител, нарушения микроциркуляции с развитием синдрома Рейно, а также фибротические нарушения кожи и стенки сосудов. Данным заболеванием страдают преимущественно женщины работоспособного возраста. По мнению авторов, именно при данном заболевании требуется максимальное внимание гинеколога с точки зрения стадии репродуктивного старения женщины и своевременного купирования при наличии климактерических симптомов [39]. В связи с тем, что при ССД поражаются преимущественно открытые участки кожи, высказываются определенные опасения касательно назначения МГТ с учетом возможного негативного влияния эстрогенов на толщину кожи, однако проведенные на сегодняшний день исследования не выявили такого влияния [40].
Важным моментом является уязвимость больных ССД в плане снижения минеральной плотности костной ткани. В основе этого явления лежит целый ряд негативных факторов. Во-первых, пациентки с ССД зачастую вынуждены постоянно принимать средние дозы глюкокортикостероидов (обычно 1–2 таблетки метилпреднизолона); во-вторых, в связи с поражением открытых участков кожи (в основном лица и кистей) может нарушаться синтез витамина D в них. Применение циклофосфамида по некоторым показаниям, а также аутоиммунный фактор могут стать причинами ранней и преждевременной менопаузы, что также ассоциировано с более высоким риском остеопороза. В нескольких исследованиях средний возраст наступления менопаузы при ССД составлял 45–46 лет [39]. Еще одним важным фактором, негативно влияющим на минеральную плотность, может быть прием ингибиторов протонной помпы по поводу сопутствующего рефлюкс-эзофагита, который является следствием поражения нижних отделов пищевода при склеродермии.
Одним из обязательных симптомов ССД, который имеют 99% пациентов, является синдром Рейно, характеризующийся побелением и/или посинением пальцев кистей, что обусловлено вазоспастическими реакциями. В то время как эстрогены характеризуются вазодилатирующим эффектом за счет стимуляции секреции простациклина, улучшения доступности оксида азота, снижения синтеза вазоконстриктора эндотелина-1, а также уменьшения пролиферации и роста гладких миоцитов сосудов [41]. Положительное влияние МГТ на микроциркуляцию проводилось среди 105 здоровых человек, которым в течение 1 года каждые 3 месяца проводилась капилляроскопия – основной инструментальный метод верификации склеродермии при наличии синдрома Рейно [42]. Отмечено, что при применении как перорального, так и трансдермального эстрадиола в комбинациях с дидрогестероном, а также тиболона значимо увеличивалась скорость кровотока без существенного влияния на морфологическую структуру капилляров (что и ожидаемо, учитывая исходное отсутствие морфологических изменений сосудов у здоровых лиц).
Более значимое влияние МГТ в плане микроциркуляторных нарушений при ССД описали итальянские ученые по результатам двух исследований. В первом из них было отмечено, что постменопауза является значимым фактором риска развития легочной гипертензии – типичного осложнения лимитированной формы ССД [43]. А во втором исследовании по результатам ретроспективного анализа со средним сроком наблюдения 7 лет среди 61 пациентки с лимитированной формой показано, что среди 20 пациенток, принимавших МГТ, ни у кого за все время наблюдения не развилась легочная гипертензия, в то время как в группе сравнения встречаемость данного осложнения составила 19,5% [44].
Таким образом, применение МГТ при ССД при наличии соответствующих показаний и отсутствии противопоказаний может оказывать положительное влияние на минеральную плотность костной ткани и микроциркуляторные нарушения.
Заключение
МГТ остается главным и наиболее эффективным методом лечения пери- и постменопаузальных симптомов. В настоящее время накоплен обширный опыт применения МГТ при различных ревматических заболеваниях. Безусловно, МГТ не должна рассматриваться как компонент лечения ревматических заболеваний, однако и ревматическое заболевание не должно рассматриваться как абсолютное противопоказание к назначению МГТ. Окончательное решение о назначении МГТ в сложных ситуациях должно приниматься коллегиально при участии ревматолога, гинеколога и хорошо осведомленной о пользе и рисках пациентки.