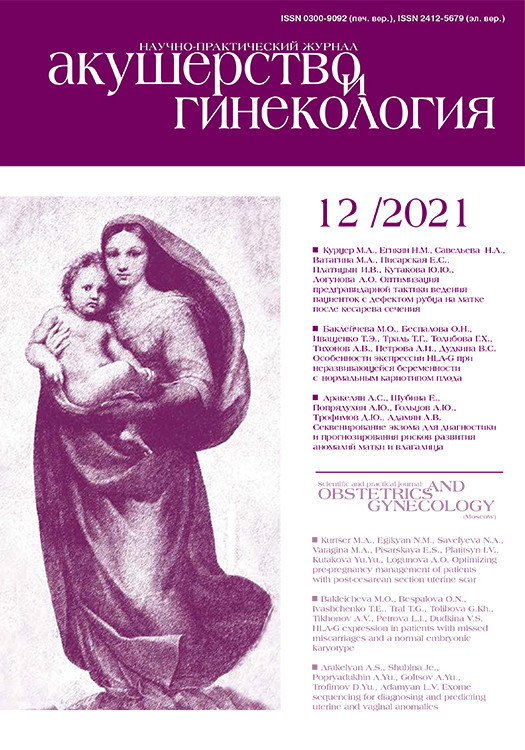Аномалии матки и влагалища являются врожденными пороками, характеризующимися стойкими морфологическими изменениями органа, которые формируются в критические периоды внутриутробной жизни и влекут за собой нарушения репродуктивной функции женщины, такие как бесплодие, прогрессирующая дисменорея, невынашивание беременности на разных сроках.
На сегодняшний день частота встречаемости пороков развития матки и влагалища составляет от 4 до 7% [1–4].
Пороки развития женских половых органов могут существовать независимо, но часто наблюдается сочетание основного порока с аномалиями других органов и систем, включая дефекты почек (25%), аномалии скелета (10–12%) и, в редких случаях, аномалии сердца и органов чувств [5–7].
Известно, что отклонение в развитии женских репродуктивных органов приводит к нарушению фертильности, повышению частоты невынашивания беременности и иным негативным акушерским исходам, а также к первичной аменорее, болевому синдрому и невозможности половой жизни. В связи с описанными клиническими проявлениями крайне важно понимание патогенеза и факторов риска развития описанных выше аномалий, а также их влияния на репродуктивное здоровье женщин [8, 9]. Современное понимание, основанное на самых последних фактических данных, позволяет проводить тщательное, точное и эффективное обследование и лечение пациенток с пороками развития матки и влагалища.
Генитальные пороки развития носят многофакторный характер. Многие исследователи считают, что пороки внутриутробного развития обусловлены воздействием как наследственных (эндогенных), так и средовых (экзогенных) факторов [10–13].
Согласно литературным данным, влияние внешних неблагоприятных факторов на плод (гипоксия, гипер- и гипотермия, ионизирующая радиация, химические соединения, патогенные микробы и алкоголь) также может стать причиной формирования пороков развития гениталий [14, 15].
Описанные в литературе семейные случаи аплазии матки и влагалища могут говорить о наследственной этиологии этого заболевания. Однако точная оценка семейных форм затруднена ввиду неполного диагностического обследования, отсутствия анализа генеалогического дерева и соответствующего скрининга братьев и сестер пациентов [16–18]. Еще одним фактором может быть отсутствие клинической информации о членах семьи (выполнение экспертного ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии органов малого таза, отсутствие симптомов заболевания у женщин с незначительными аномалиями, не снижающими качество жизни), что может быть связано с отсутствием документально подтвержденной семейной заболеваемости аплазией матки и влагалища.
Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о весомой роли генетических факторов в патогенезе заболевания [19–21]. По данным разных авторов, врожденные пороки развития в 13–25% случаев обусловлены генетическими причинами, мультифакториальными нарушениями, вызванными суммой генетических и средовых факторов, а также хромосомными мутациями в виде транслокаций, делеций, дупликаций и инверсий; в 10% случаев врожденные нарушения вызваны внешними факторами, а в 65% случаев причину нарушений установить не удается [22].
Несмотря на большое количество исследований в области репродуктивной генетики и развитие современных методов анализа генома, генетическая гетерогенность при пороках развития матки и влагалища, вероятно, недооценена, потому что большинство исследований на сегодняшний день основано на «гене-кандидате», в то время как следует применять более широкие методы, такие как полное секвенирование экзома, особенно семейных случаев, чтобы идентифицировать новые причинные гены и уточнить характер наследования и пенетрантности. Кроме того, открытие новых генов, вызывающих синдром Майера–Рокитанского–Кюстнера–Хаузера (СМРКХ), также увеличит знания о молекулярных механизмах, играющих роль в развитии женского репродуктивного тракта. Только анализ больших когорт пациентов с аномалиями развития матки и влагалища, в частности СМРКХ, безусловно, поможет определить новые гены-кандидаты и установить фенотип/генотипические корреляции, необходимые для генетического анализа, диагностики аномалий развития матки и влагалища, а также выявления факторов риска развития данных аномалий.
Цель исследования: выявить генетические маркеры пороков развития матки и влагалища, включая сложные и редкие сочетания аномалий других органов и систем с помощью анализа экспрессии и метилирования генов.
Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской Декларации. Протокол исследования был одобрен Этическими комитетами всех участвующих клинических центров. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.
Материалы и методы
Мы провели генетическое исследование 15 женщин с аплазией матки и влагалища, 3 пациенток с экстрофией мочевого пузыря, 1 пациентки с частичной аплазией влагалища при функционирующей однорогой матке и 2 пациенток с удвоением матки и влагалища с частичной аплазией второго влагалища, сопровождающимися другими серьезными аномалиями, такими как нарушение формирования костно-мышечной системы или отдельных его частей, пороки развития мочевыделительной системы (аплазия почки, экстрофия мочевого пузыря), аномалии нарушения слуха и т.д.
Пациенткам было проведено хирургическое лечение по поводу коррекции порока развития в отделении оперативной гинекологии, лабораторная часть исследования проводилась на базе Института репродуктивной генетики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Были собраны образцы крови и фенотипические данные. Письменное информированное согласие было получено от всех испытуемых. У всех пациенток определен сбалансированный кариотип 46,XX. У каждой пациентки были взяты образцы периферической крови. ДНК из клеток крови выделяли с помощью набора QIAamp DNA Blood Mini Kit (QIAGEN). Обогащение целевыми фрагментами и приготовление библиотек для секвенирования проводили с использованием наборов для обогащения SureSelectXT V7 согласно инструкции производителя.
Секвенирование проводили на приборе MGISeq-2000 согласно инструкции производителя. Выравнивание на референсный геном (версия hg38) и поиск отличий от референсного генома проводили с использованием программного пакета GATK с использованием GATK best practicies [23]. Аннотацию полученных вариантов проводили с использованием инструмента Variant effect predictor, фильтрацию аннотированных вариантов – с использованием скриптов, разработанных авторами [24]. Проведен анализ в генах, ассоциированных с пороками развития женских половых органов и мочеполовой системы. Для анализа данных использован список генов базы данных Human phenotype ontology https://hpo.jax.org/app/.
Результаты
Полученные данные демонстрируют предположительную связь с фенотипом в 9 (42%) случаях из 21. Результаты анализа вариантов приведены в таблице. В 7 образцах найдены вероятно патогенные варианты и варианты неясной клинической значимости в генах, ассоциированных с доминантными заболеваниями (ROBO2, MYRF, TRPC6, SRCAP, GREB1L, SPRY4, PROKR2). Для уточнения значимости необходимо проведение генетического обследования родителей пациента.

В 2 случаях обнаружены варианты, связанные с аутосомно-рецессивными синдромами (NPHP3 и TMEM67), в клиническую картину которых входят нефроптоз, нарушение развития почек и печени.
Для уточнения значимости необходимо проведение сегрегационного анализа. Если варианты унаследованы по одному от каждого родителя и значимость этих вариантов подтвердится, то риск повторного рождения ребенка с такой патологией в семье – 25%.
В 1 случае дополнительно обнаружен патогенный гомозиготный вариант в гене GJB2, который приводит к глухоте, что соответствует особенностям, наблюдаемым у пациента, но не объясняет аплазию матки.
В 1 случае обнаружен ранее описанный патогенный вариант в гене андрогенового рецептора AR в гетерозиготном состоянии, который может приводить к частичной нечувствительности к андрогенам у мужчин.
Обсуждение
Причина порока развития матки и влагалища остается неизвестной. Многие исследователи считают аномалии развития мюллеровых протоков многофакторными и полигенными заболеваниями, включающими сложные генетические механизмы [4, 8, 25, 26].
Наибольший научный интерес представляет СМРКХ, который также именуется аплазией матки и влагалища, является второй по частоте причиной первичной аменореи и вдобавок приводит к проблемам, связанным с половой жизнью. Для него характерно врожденное отсутствие матки, шейки матки и влагалища у фенотипически нормальных девочек с кариотипом 46,XX.
Агенезия женских половых органов может встречаться в сочетании и с другими редкими синдромами, такими как синдром McKusick–Kaufman (ген MKKS, локус 20p12), синдром Bardet–Biedl (ген MKKS, локус 20p12 и ряд других генов в разных хромосомах), синдром Wolf–Hirschhom (делеции хромосомы 4р16.3), синдром Goldenhar, что может свидетельствовать об общих началах этиологических факторов [27].
Гетерогенность СМРКХ предполагает наличие молекулярных дефектов на пути развития внутренних органов, тесно связанных в процессе эмбриогенеза. Действительно, СМРКХ проявляется в результате возникновения повреждений на сроке 5–6 недель беременности, поражая промежуточную мезодерму и приводя к слиянию мюллеровых протоков. Почечная система также развивается из мезодермы, что и объясняет агенезию почек или эктопию, часто ассоциированную с СМРКХ [28].
Долгое время синдром считался спорадической аномалией, но увеличивающееся число семейных случаев подтверждает гипотезу генетической причины [17, 29]. В семейных случаях синдром передается как аутосомно-доминантный признак с неполной пенетрантностью и переменной выразительностью. Это предполагает вовлечение либо мутаций в основном гене развития, либо более ограниченного хромосомного дисбаланса. По данным автора, зарегистрировано только 68 случаев семейного СМРКХ [17].
По данным Л.В. Адамян и соавт. (2008), генетические факторы играют важную роль не только в основе эмбриогенеза пороков развития матки и влагалища, но и в этиопатогенетических механизмах формирования очагов эндометриоза [19]. Анализируя сведения и различные клинические случаи о сочетании СМРКХ с наружным и внутренним эндометриозом, группа авторов выявили взаимосвязь между данными заболеваниями и предположили, что они являются многофакторными заболеваниями, причинами которых могут являться генетические полиморфизмы, наследственность, гормональные влияния на эстрогеновые и прогестероновые рецепторы [30].
В литературе широко дискутируется ключевая роль WNT, HOXA и PAX генов, которые играют важную роль в ходе эмбриогенеза [31–33].
Семейство WNT включает группу генов, участвующих в эмбриональном развитии. Более того, гены WNT играют хорошо известную роль в развитии мочеполовой системы млекопитающих [34, 35].
Гены, содержащие гомеобокс, принадлежат к большому семейству, включающему кластеры HOX. Некоторые из HОХ-генов (HОХА9-13 и HОХВ9-13) играют решающую роль в развитии женских репродуктивных путей и поэтому считаются предполагаемыми кандидатами для развитии СМРКХ [36].
Удивительно, но делеция всего кластера HOXA не вызывает большего количества урогенитальных аномалий, чем одиночные моноаллельные мутации HOXA13 [37].
HОХА9 экспрессируется в фаллопиевых трубах, HОХА10 – в матке, HОХА11 – в матке и шейке матки, а HОХА13 – в верхней части влагалища [33, 38].
Гены с широким спектром активности в раннем развитии (например, WT1 [38], PAX2, HOXA7 в HOXA13 и PBX1 [39]) также были предложены в качестве кандидатов на основе наблюдаемых фенотипов у мутантных мышей [33]. Однако их роль в СМРКХ впоследствии не была продемонстрирована.
Научный интерес вызывают данные о том, что у одного из монозиготных близнецов развивается СМРКХ, а у другого – нет, что указывает на то, что заболевание обусловлено не только различиями в генотипе, а патогенетический механизм СМРКХ может включать эпигенетические изменения, обусловленные экологическими факторами [18]. Rall et al. [40] исследовали различия в продуктах транскрипции и уровнях метилирования между пациентами с СМРКХ и здоровыми добровольцами с помощью общегеномного анализа. Оценивая два кластера генов, девять потенциально причинных генов (HOXA5, HOXA9, WISP2, CDH5, PEG10, MFAP5, LRRC32, RALGPS2 и ralgps2) были идентифицированы. Шесть из этих генов (CDH5, MFAP5, WISP2, HOXA5, PEG10 и HOXA9) участвуют в развитии женских половых органов. Последующие сетевые анализы выявили WISP2, HOXA5, HOXA9, GATA4 и WT1 в качестве ключевых генов в СМРКХ.
De Tomasi L. et al. в своем исследовании описали случаи особей женского пола с аплазией матки и аплазией почки, подтверждающие, что ген GREB1L играет важную роль в развитии почек и женских половых путей [41].
Morten K. Herlin et al. утверждают, что GREB1L – новый и перспективный ген-кандидат в этиологии СМРКХ [42].
Интересно, что генитальные пороки развития, такие как двурогая матка [43], аплазия мюллеровых протоков [44], иногда обнаруживались в сочетании с аномалиями почек в некоторых семейных случаях, демонстрирующих мутации в гене TCF2. Дефекты этого гена могут, таким образом, объяснить некоторые редкие случаи генитальных пороков развития, включая аплазию, что делает этот ген одним из кандидатов, подтверждающих генетическую связь с СМРКХ, но она ограничивается семейными случаями с почечным и/или диабетическим анамнезом.
Другие авторы сообщали, что существенная часть нарушений полового развития этиологически связана с хромосомными аномалиями и затрагивает хромосомы 1–7, 10–18, 22 и X. Но сравнение результатов различных исследований выявило только пять повторяющихся делеций/дупликаций в хромосомных областях 1q21.1, 16p11.2, 17q12, 22q11.21 и Xp22 [45–50]. В целом эти изменения были выявлены у 28 пациентов с СМРКХ и составляют примерно 10% случаев СМРКХ.
Фенотипические данные показывают, что ассоциированные почечные, скелетные и другие врожденные аномалии встречаются в нашей когорте. Мы идентифицировали новые области геномного дисбаланса у женщин с аномалиями женских половых органов и другими пороками развития мюллерова протока, дополнительно выясняя сложную генетическую архитектуру этих состояний.
Растущее число семейных случаев, характер врожденных пороков развития указывают на то, что аплазия матки и влагалища является расстройством, возникающим во время эмбрионального развития, в формировании которого играют роль генетические факторы [27, 51].
Нами обнаружены в 7 случаях варианты в генах (ROBO2, MYRF, TRPC6, SRCAP, GREB1L, SPRY4, PROKR2) вероятно-патогенной и неясной значимости, ассоциированных с доминантными заболеваниями. Мутации в гене MYRF, который кодирует транскрипционный фактор, необходимый для дифференцировки олигодендроцитов и ассоциирован с развитием сердечно-урогенитального синдрома, могут приводить к отсутствию матки и яичников. GREB1L участвует в сигнальном пути ретиноевой кислоты, мутации в нем приводят к почечной аплазии/гипоплазии. Мутации в этом гене могут приводить к порокам развития матки, влагалища и яичников, фенотип может быть вариабельным, а пенетрантность неполной. Мутации в гене ROBO2 ассоциированы с нарушением развития почек и мочевых путей. SRCAP кодирует АТФ-азу, необходимую для встраивания гистона H2A в нуклеосому. Мутации в этом гене приводят к синдрому Floating–Harbor, в клиническую картину которого входят аномалии развития половых органов и суставов. Ген PROKR2 кодирует внутримембранный белок и рецептор к прокинетицинам, а SPRY4 – ингибитор сигнального пути митоген-активируемой протеинкиназы. Мутации в этих генах ассоциированы с гипогонадотропным гипогонадизмом, первичной аменореей и отсутствием пубертатного периода. Мутация в гене TRP6 приводит к нарушению функции и морфологии почек, не приводит к аплазии матки и влагалища, но может модифицировать клиническую картину. В данной ситуации для уточнения значимости необходимо провести генетическое исследование родителей с целью поиска варианта в генах. В случае если варианты возникли de novo и значимость вариантов подтвердится, то риск повторного рождения в семье ребенка с такой патологией низкий – 1–2% (нельзя исключать гонадный мозаицизм у родителей). Однако у этих женщин есть возможность рождения генетически родного ребенка с риском передачи мутации ребенку 50%.
Гены NPHP3 и TMEM67 ассоциированы с различными аутосомно-рецессивными синдромами: Meckel syndrome, Nephronophthisis, Renal-Hepatic- Pancreatic Dysplasia, в клиническую картину которых входят нефроптоз, нарушение развития почек и печени.
Обнаруженный нами в 1 случае ранее описанный патогенный вариант в гене андрогенного рецептора AR в гетерозиготном состоянии является Х-сцепленным геном, но учитывая, что у мужчин данный вариант в гене может вызывать синдром нечувствительности к андрогенам, не исключена его роль в формировании пороков развития матки и влагалища. Следовательно, при рождении у этой женщины мальчика с помощью вспомогательных репродуктивных технологий и суррогатного материнства вероятность рождения ребенка с синдромом нечувствительности к андрогенам – 50%. Таким образом, женщин с пороками развития матки и влагалища, желающих прибегнуть к суррогатному материнству, следует проконсультировать о преимплантационной генетической диагностике,учитывая потенциальный риск наследования такого геномного дисбаланса потомством.
Изучение экзомов ДНК у пациенток с пороками развития матки и влагалища может позволить поддержать генетическую гипотезу развития сложного генитального порока. Так как не для всех выявленных нами вариантов клиническая картина пациенток соответствовала той, что характеризует мутация в генах, для получения точных данных необходимо проанализировать большое количество пациенток, чтобы раскрыть сложные основные дефекты этого гетерогенного заболевания, провести функциональный анализ заболевания.
Заключение
Настоящее исследование было проведено с целью выявления общих генетических причин возникновения сложных и редких пороков развития у пациенток с врожденными аномалиями развития женских половых органов. Для определения потенциальных причин, лежащих в основе генитальных пороков развития, требуется тщательный и подробный анализ анамнеза и большого числа генов. Геномный анализ экспрессии и метилирования генов может быть полезным для понимания молекулярных путей. Выявление причины пороков развития позволит уточнить диагноз и оценить риски повторного рождения в семье детей со схожими пороками развития и при необходимости провести необходимые исследования пренатально. Вполне вероятно, что у пациентов с аплазией матки и влагалища могут быть гетерозиготные мутации de novo в еще неизвестных генах. Мы считаем, что использование генетических методов может повысить шансы на выявление причинных генов данного порока развития. На наш взгляд, необходимо изучить всех членов семьи, а также все семейные случаи, чтобы определить закономерности наследования и установить корреляции между генотипом и фенотипом, а также оценить риски повторного рождения в семье детей со схожими пороками развития.