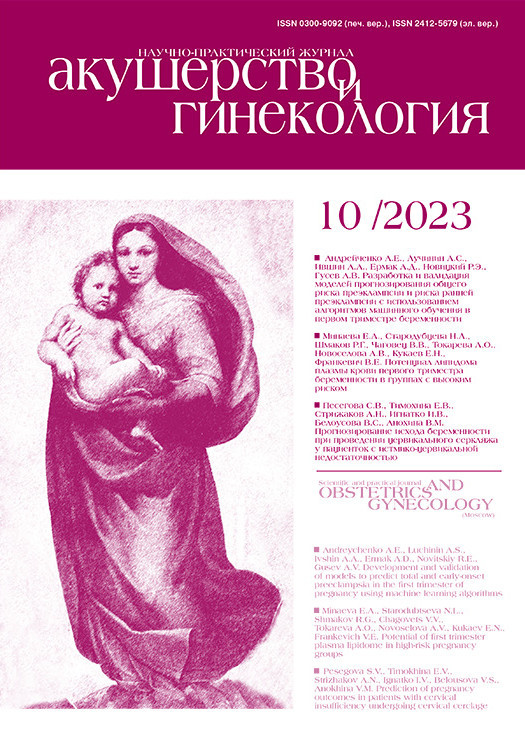Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) соответствует зарубежному термину Preterm premature rupture of membranes (PPROM), определяемому как разрыв плодных оболочек до 37 недель беременности, и Premature rupture of membranes (PROM) – разрыв плодных оболочек после 37 недель гестации. По локализации места разрыва подразделяется на 2 варианта: «классический ПРПО» (Classic PPROM), характеризующийся разрывом в области внутреннего зева шейки матки и излитием околоплодных вод вплоть до полного их отсутствия (ангидрамнион); «высокий боковой разрыв» (High PPROM), характеризуется минимальным дефектом плодных оболочек или боковым разрывом и сопровождается либо нормальным количеством амниотической жидкости, либо его уменьшением [1]. Латентный период после ПРПО в среднем составляет 7 дней и имеет тенденцию к сокращению по мере увеличения срока гестации [2].
Общеизвестно, что ведущей причиной преждевременных родов (ПР) является ПРПО, который наблюдается при доношенной беременности в 8–10% случаев: при одноплодной – в 2–4%, при многоплодной – в 7–20%. В целом на долю ПРПО при недоношенной беременности приходится 20–40%, что сочетается почти в половине наблюдений с ПР [3].
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 г. недоношенными родились 13,4 млн детей [4]. Осложнения, связанные с ПР, являются ведущей причиной высокой заболеваемости и смертности среди детей в возрасте младше пяти лет и в 2019 г. стали причиной примерно 900 000 случаев летальных исходов [5]. Необходимо отметить, что три четверти этих смертей можно было предотвратить с помощью современных, экономически эффективных методов оказания медицинской помощи. В 2020 г. доля младенцев, родившихся недоношенными, колебалась в диапазоне от 4 до 16% в зависимости от страны [5].
ПРПО является причиной очень высокого уровня неонатальной заболеваемости и смертности, ведущими причинами которых служат недоношенность, развитие бронхолегочной дисплазии, некротизирующего энтероколита, неонатального сепсиса и др. Кроме того, существуют риски, связанные с отслойкой плаценты, а также развитием инфекционных осложнений, таких как хориоамнионит, эндометрит и т.д. [3, 6, 7].
Известно, что плодные оболочки представляют собой барьер для потенциальных патогенов. Потеря их целостности, воспаление и связанный с ним окислительный стресс могут увеличить вероятность ПРПО или напрямую привести к проникновению микроорганизмов в амниотическую полость [8]. По данным литературы, множество факторов может способствовать нарушению целостности плодных оболочек. Наиболее частыми из них являются инфекционно-воспалительные изменения, которые нередко тесно связаны с ПРПО, но конкретные механизмы, вызывающие разрыв, неизвестны [9, 10]. Все случаи ПРПО могут быть классифицированы на 2 группы: связанные с воспалительными изменениями плодных оболочек и вызванные другими причинами. Наиболее распространенной и изученной причиной является развитие внутриамниотического воспаления (ВАВ).
В настоящее время вопрос о том, является ли воспалительный процесс первичным или возникает в результате разрыва плодных оболочек, что способствует вторичной инвазии, остается предметом дискуссии. Самым распространенным путем инвазии микроорганизмов является восходящая инфекция, приводящая к хориоамниониту и последующему инфицированию плода и новорожденного. Однако возможен также гематогенный путь распространения и ятрогенный, связанный с инвазивными процедурами пренатальной диагностики и фетальными хирургическими вмешательствами [11].
Изменение морфологии плодных оболочек, наиболее часто связанное с их воспалительными изменениями, разрушением коллагеновой структуры и отеком мембран, часто является результатом бактериальной инвазии и воздействия провоспалительных цитокинов. Медиаторы воспаления могут играть ключевую роль как в нарушении целостности мембран плода, так и в индукции сократительной активности матки. Размножение микроорганизмов является важным фактором, не только способствующим развитию ПРПО, но также может привести к неблагоприятным исходам как для матери, так и для плода [1].
Кроме того, микроорганизмы могут проникать в амниотическую полость у пациенток с интактными плодными оболочками и вызывать воспалительную реакцию, что также может способствовать вторичной микробной инвазии в амниотическую полость с последующим разрывом плодных оболочек [11].
В опубликованном обзоре Šket T. et al. (2021) отмечено, что микробная инвазия амниотической полости (МИАП) является не следствием обширного инфицирования амниохориальной оболочки, а предшествует ему. Авторы предположили, что МИАП начинается с интраамниотической бактериальной инвазии через микротрещины амниохориальной мембраны, за которой следует интраамниотическая пролиферация, и, следовательно, бактериальная инвазия в амниохориальную мембрану в первую очередь распространяется из амниотической жидкости [12]. В дальнейшем патогены идентифицируются рецепторами распознавания образов (pattern recognition receptors) – компонентом врожденной иммунной системы, который активирует синтез цитокинов, хемоаттрактантов цитокинов (хемокинов), простагландинов, протеаз, антимикробных пептидов и других механизмов врожденного иммунитета. Некоторые из них опосредованы нейтрофилами, моноцитами и лимфоцитами [13, 14]. Этот иммунный каскад может привести к сократительной активности матки, изменениям шейки матки и ПР. Более того, некоторые бактерии посредством высвобождения эндо- и экзотоксинов, разрушающих амниохориальную мембрану, или активируя синтез и высвобождение различных молекул (например, простагландинов), индуцирующих маточные сокращения и/или разрыв плодных оболочек, приводят к ПР [15, 16].
Следует отметить, что МИАП тесно связана со значительным повышением концентрации матрикcных металлопротеиназ (ММП)-8 и -9 в амниотической жидкости у пациенток с ПР и интактными плодными оболочками, а также у пациенток с ПРПО. ММП – это класс ферментов, которые разрушают компоненты внеклеточного матрикса, такие как коллаген, эластин, гликозаминогликаны и фибронектин. Они играют важную роль в процессах ремоделирования тканей. Коллаген I типа обеспечивает основную прочность на растяжение плодных оболочек. ММП-8, или коллагеназа нейтрофилов, расщепляет интерстициальные коллагены, действуя преимущественно на коллаген I типа, способствуя ослаблению коллагенового матрикса плодных оболочек [17, 18].
В исследовании Brown R.G. et al. [19] обнаружено, что бактериальный состав влагалища, характеризующийся истощением Lactobacillus spp. и высоким разнообразием микрофлоры, выявленный до разрыва плодных оболочек, примерно в трети случаев привел к преждевременному их разрыву [19]. Данные, полученные в исследованиях Кузнецовой Н.Б. и соавт. [20], демонстрируют, что бактериальная обсемененность влагалища лактобактериями истощается и замещается другой микрофлорой, такой как Prevotella, Streptococcus, Peptoniphilus, Ureaplasma и Dialister spp. [20]. Эти бактерии являются хорошо описанными условно-патогенными колонизаторами, способными повышать экспрессию ММП. Напротив, здоровая беременность характеризуется стабильным и низким разнообразием микрофлоры влагалища с содержанием Lactobacillus spp. >75% [21–23].
С целью выявления этиологических путей ВАВ Romero R. et al. провели исследование для определения микробиологического профиля амниотической жидкости у пациенток с ПРПО. Наличие ВАВ определялось по концентрации интерлейкина-6 (ИЛ-6) в амниотической жидкости (ИЛ-6≥2,6 нг/мл). В исследование включены 59 пациентов, из которых в 30% случаев ВАВ не выявлен этиологический агент, в дальнейшем они классифицированы как имеющие стерильное интраамниотическое воспаление. Необходимо отметить, что распространенность микробно-ассоциированного и стерильного ВАВ различалась в зависимости от гестационного срока, в котором произошел разрыв плодных оболочек. Чем меньше срок гестации, тем выше распространенность микробно-ассоциированного воспаления [11].
В настоящее время стерильность амниотической полости даже при неповрежденных плодных оболочках подвергается сомнению [24, 25]. Baldwin E.A. et al. [26] и Aagaard K. et al. [27] выявили, что микробиом плаценты у пациенток с ПРПО имеет высокую индивидуальную вариабельность и слабо коррелирует с микробиомным профилем влагалища. Однако эти данные были опровергнуты de Goffau M.C. et al. [28], которые продемонстрировали, что микробиом плаценты состоит из нормальной флоры без патогенных микроорганизмов, но в нем могут определяться потенциальные патогены [28]. Противоречивые наблюдения этих исследований отражают сложность изучения микробиома плаценты, так как плацента является относительно труднодоступной тканью во время беременности, а после рождения легко контаминируется.
В связи с этим в последние годы появляется все больше работ, свидетельствующих об отсутствии выявленного инфекционного агента, что подтверждает асептическое воспаление амниотической полости [29–31].
Как отмечалось выше, асептическому воспалению могут предшествовать структурные изменения плодных оболочек, связанные с ремоделированием коллагена, повышенным ангиогенезом, усиленным клеточным апоптозом и воздействием тромбина, приводящие впоследствии к ослаблению механической прочности тканей. Асептическое воспаление является признаком зрелости плодных оболочек, ассоциированным со старением, и характеризуется главным образом присутствием воспалительных биомаркеров, факторов роста и ферментов, разрушающих коллагеновый матрикс [29]. Данные процессы могут быть связаны с биологическим старением плодных оболочек и являться физиологической реакцией организма при приближении к доношенному сроку беременности. Однако процессы созревания, инициирующие ПР, представляют научный интерес и предмет для дальнейшего поиска.
Старение плодных оболочек рассматривается как вариант асептического воспаления плодных оболочек, и это механизм, связанный с биологическим созреванием тканевых элементов вследствие активного роста плода [30, 31].
Инфекция, воспаление и связанный с ним окислительный стресс способствуют старению клеток амниотических мембран и отмечаются в плодных оболочках при преждевременном их разрыве [32–34]. Старение плодных оболочек предшествует процессу «асептического воспаления» в амниотической полости [35] во время нормальной беременности, которое является физиологической реакцией организма; тогда как воспалительные маркеры в плодных оболочках являются инфекционными в ответ на присутствие бактериальных агентов в амниотической полости [33]. В поддержку этой гипотезы было показано, что гистологический хориоамнионит на фоне отрицательного посева околоплодных вод увеличивает риск реализации ПР [36].
Разрыв плодных оболочек (физиологический или преждевременный), связанный со старением, сопровождается изменением плазменных концентраций sRAGE, HMGB1 и AGE [37], что подтверждается в исследованиях, проведенных Bouvier D. et al. [38], которые выявили связь между ПРПО и активацией RAGE, возможно, лигандом HMGB1.
Во время определенных стадий стерильного воспаления клетки выделяют маркеры молекулярного паттерна, связанные с воспалительным повреждением – damage-associated molecular pattern markers (DAMPs) [8], такие как high-mobility group box 1 (HMGB1), который индуцирует воспалительную реакцию, частично опосредованную инфламмасомой в плодных оболочках [39]. HMGB1 также является известным лигандом рецептора конечных продуктов усиленного гликирования (RAGE), который связан с осложнениями беременности, такими как преэклампсия и/или ПРПО [37, 40–43].
Клеточное старение происходит в плаценте человека и плодных оболочках по мере приближения срока беременности, близкого к доношенному. В то время как последнее является физиологическим, преждевременное старение может привести к преждевременному разрыву мембран [30, 44]. Секреторный фенотип, ассоциированный со старением (senescence associated secretory phenotype, SASP), представляет собой уникальную воспалительную сигнатуру, генерируемую стареющими клетками. Экспрессия SASP-подобного пролиферата в плодных мембранах в сроке родов доминирует над генами воспалительного утеротонического пути, что позволяет предположить участие клеточного старения в плодных мембранах в качестве сигнала для инициации ПР [30, 31, 44].
Одна из невоспалительных причин разрыва плодных оболочек связана с ремоделированием коллагена и процессом, связанным с биологическим процессом их созревания. Согласно данным Kumar D. et al. [10], ближе к доношенному сроку беременности развивается парацервикальная «слабая зона», характеризующаяся ремоделированием коллагена и апоптозом клеток амниона, в пределах которой инициируется разрыв плодных оболочек. В более ранние сроки плодные оболочки также имеют «weak zone (слабые зоны)», но в целом они прочнее, чем при доношенной беременности.
Наиболее вероятно, что разрыв плодных оболочек является результатом процесса ремоделирования (созревания), аналогичного тому, который наблюдается в шейке матки. И в шейке матки, и в амнионе изменения типа коллагена и матрикса вызывают начальное структурное ослабление, за которым следует клеточный апоптоз. Эти изменения были зарегистрированы на экспериментальных животных моделях. Однако у человека при доношенной беременности плодные оболочки не имеют таких глобальных изменений, а скорее, «созревает» фокальный очаг над шейкой матки, в которой обнаруживаются морфологические изменения с ремоделированием коллагена и апоптозом клеток амниона [10].
Низяевой Н.В. и соавт. [45] были изучены структурные изменения плодных оболочек последов при ПР. Были отмечены ослабление механической прочности плодных оболочек за счет усиления ангиогенеза в компактном слое и децидуальной пластинке и появление в этих структурах множественных дефектов и микроразрывов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что на доношенном сроке беременности происходит повышение васкуляризации плодных оболочек, приводящее к их разрыву и началу родов. Развитие данных изменений на более ранних сроках беременности может являться причиной ПР.
В исследованиях, проведенных Menon R. и Richardson L. [8, 46], было выявлено существование структурных дефектов в плодных оболочках, называемых микротрещинами. Эти участки характеризуются деградацией коллагена, формируя каналы для клеток и амниотической жидкости. Морфометрические показатели микротрещин (ширина и глубина) в плодных оболочках были выше у женщин, у которых произошли роды при доношенном сроке беременности. Однако также были обнаружены микротрещины в плодных оболочках при родах в гестационном сроке 28–34 недели у беременных с преэклампсией, при которой, возможно, происходило изменение структуры строения плодных оболочек, что могло способствовать разрыву оболочек. Авторы предполагают, что микротрещины представляют собой области недостаточного ремоделирования тканей из-за основного патологического состояния или преждевременного старения плодных оболочек под воздействием окислительного стресса [46]. Также микротрещины были обнаружены при изучении биологического процесса, связанного со старением плодных оболочек [9]. Кроме того, в литературе описывается мнение Mogami H. et al [47], Richardson L. и Menon R. [48] о том, что плюрипотентные клетки амниона способны самостоятельно заживлять образующиеся дефекты (микротрещины) в плодных оболочках.
Вышеизложенное свидетельствует о многофакторной природе данного осложнения беременности, возможном сочетании нескольких этиологических агентов и высокой вероятности воздействия воспалительных агентов на предварительно ослабленные ткани.
Следует отметить, что в работах зарубежных авторов отмечается необходимость проведения амниоцентеза с целью улучшения диагностики ВАВ. Данный метод представляет собой инвазивное медицинское вмешательство и имеет ряд осложнений и противопоказаний. В то же время современные возможности предполагают, что неинвазивные методы диагностики являются преимущественными для выявления пациенток группы высокого риска, избегая при этом ненужных вмешательств у пациенток группы низкого риска [49, 50].
Выявление факторов риска развития ПРПО позволит антенатально выявить и устранить угрозу ПР, прогнозировать и проводить профилактику возможных инфекционных осложнений у матери и плода с целью снижения перинатальной и материнской заболеваемости и смертности.
В последние годы рядом авторов производились исследования, направленные на выявление потенциальных биомаркеров в материнской крови, моче, цервиковагинальной жидкости, которые могут прогнозировать развитие внутриамниотической инфекции [50–52]. Однако ни один из биомаркеров не продемонстрировал достаточной чувствительности и специфичности, чтобы заменить биомаркеры, полученные из амниотической жидкости. Кроме того, недостаточно данных о корреляции экспрессии воспалительных маркеров в образцах, полученных неинвазивным путем, с выраженностью воспалительного процесса в амниотической жидкости. Решение этих вопросов имеет клиническое значение не только для лучшего понимания воспалительных иммунных реакций на бактериальную инвазию в различных отделах, но и для выявления внутриамниотической инфекции, избегая при этом риска и сложности инвазивного вмешательства.
Заключение
Таким образом, перспективным является внедрение новых методов исследования, позволяющих раскрыть или уточнить механизмы асептического и инфекционного путей патогенеза ПРПО. С этих позиций интересным является изучение данного осложнения беременности на основе масс-спектрометрии, что поможет выявить дифференциальные паттерны экспрессии белков, связанные с воспалением, окислительным стрессом и бактериальной инвазией в амниотической жидкости и плодных оболочках. Применение омиксных технологий – геномики (исследование на уровне считывания генетической информации), эпигеномики (изучение регуляторных систем реализации генетической информации), транскриптомики (детекция активности генов), протеомики (анализ белков), метаболомики (анализ конечных продуктов преобразования веществ – метаболитов) позволит выявлять потенциальные биомаркеры одновременно на различных молекулярных уровнях в организме человека, что делает их использование перспективным для проведения исследований по изучению заболеваний, где нет одного основного патофизиологического механизма развития изучаемого состояния. Внедрение в клиническую практику неинвазивных маркеров обеспечит возможность своевременного проведения профилактических мер, назначения терапии и определения тактики ведения беременных с целью улучшения перинатальных исходов.