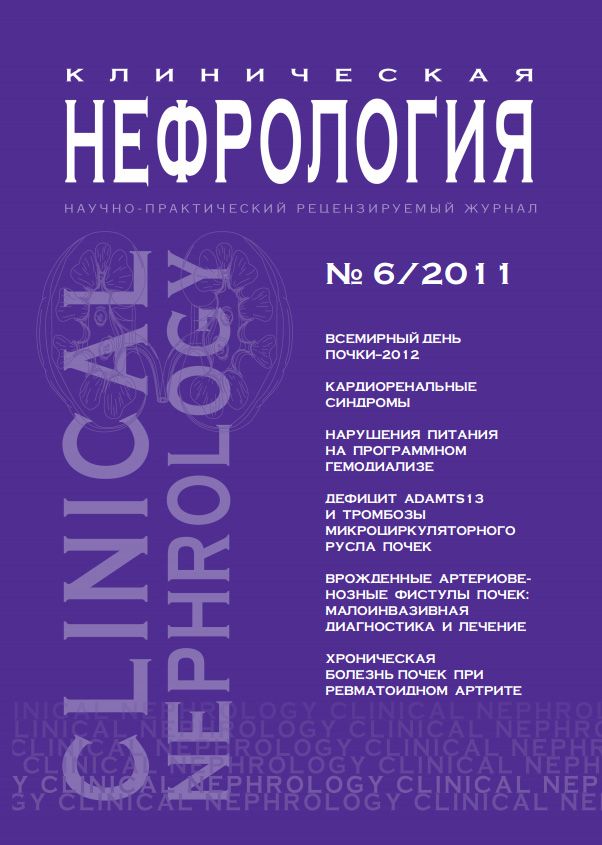Взаимосвязь артериальной гипертензии (АГ) с гиперурикемией в последние годы является предметом интенсивного изучения с позиций увеличения у этой категории пациентов риска сердечно-сосудистых и почечных осложнений [1, 2]. Данные многочисленных эпидемиологических и клинических исследований подтверждают особенно высокую распространенность АГ среди пациентов с подагрой и метаболическим синдромом [3].
Подавляющее большинство пациентов с подагрой имеют различные ассоциированные клинические состояния, из которых особое клиническое и прогностическое значение имеет именно АГ. Вопрос о значении гиперурикемии как детерминанты АГ остается предметом интенсивных дискуссий [1, 2, 4]. Считают, что АГ при гиперурикемии можно во многом рассматривать как вторичную: ее формирование
связывают с повреждающим действием кристаллов мочевой кислоты (МК) на почечный тубулоинтерстиций с последующей гигантоклеточной инфильтрацией его, ассоциированной с
гиперпродукцией воспалительных цитокинов – интерлейкина-1 (ИЛ-1), ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-4, α-фактора некроза опухолей, что приводит к постепенной фибропластической трансформации интерстициальной почечной ткани.
Наблюдающиеся в ходе формирования названного варианта почечного поражения расстройства функции почечных канальцев проявляются в т. ч. задержкой натрия и осмотически свободной воды, обусловливающими формирование и нарастание АГ [5–9]. Гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) также играет заметную роль в патогенезе АГ, ассоциированной с гиперурикемией [7, 10, 11]. Очевидно, что именно за счет наличия АГ сама по себе подагра может играть роль фактора риска сердечно-сосудистых осложнений [8, 12]. В связи с этим изучение взаимосвязей АГ, гиперурикемии и подагры, ставшее целью настоящего исследования, характеризуется существенной актуальностью.
Материал и методы
В исследование включены 65 больных подагрой в возрасте от 20 до 69 лет (средний возраст – 52,0 ± 9,8 года, 54 мужчины и 4 женщины). Критериями включения в исследование были наличие достоверного диагноза подагры, верифицированного по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR), согласие пациента на участие в исследование. В исследование не включали больных хронической сердечной недостаточностью III–IV функциональных классов (NYHA), перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и/или черепномозговую травму, страдающих заболеваниями щитовидной железы, требующими заместительной гормональной терапии; злокачественными новообразованиями, декомпенсированным сахарным диабетом; злоупотребляющих алкоголем, имеющих признаки хронической болезни почек.
У всех обследуемых по данным УЗИ констатированы нормальные размеры почек; ультразвуковых изменений их не определялось. Всем больным проведено общеклиническое обследование с оценкой стандартных антропометрических параметров, измерено АД общепринятым методом, индекс
тяжести подагры определен по методу И.А. Якуниной (2006) [13]. При биохимическом исследовании крови определена концентрация мочевой кислоты и рассчитаны ее мочевой клиренс, креатининемия с последующим расчетом СКФ по формуле Кокрофта–Голта, составившей в среднем 110,2 [96,5;
128] мл/мин/1,73 м2.
Наличие АГ было отмечено у 50 (77 %) пациентов, из них у 31 (62 %) АГ в анамнезе предшествовала возникновению подагры, у 14 (28 %) возникла при наличии суставной подагры, у 3 (6 %) появление подагры и АГ совпадало по времени, и у 2 (4 %) продолжительность существования АГ достоверно
определить не удалось. У 10 пациентов констатирована АГ I степени, у 31 – АГ II и у 9 – АГ III степени.
Таблица 1. Взаимосвязь клинико-лабораторных показателей, характеризующих тяжесть подагры, с АГ.
Таблица 2. Корреляции степени и стадии АГ с клинико-лабораторными показателями, характеризующими тяжесть подагры.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью стандартного пакета Statistica for Windows, версия 6.0, использовались непараметрические методы: критерий Манна–Уитни, применяемый для сравнения двух независимых групп; критерий Крускела–Уоллиса, применяемый при сравнении более двух независимых групп; корреляционный метод Спирмена, множественный линейный регрессионный анализ. Достоверными считали различия при p < 0,05.
Результаты и обсуждение
Длительность суставной подагры у обследованных больных составила от 0,5 до 24,0 лет (в среднем 7,5 ± 6,2 года). Подагрические тофусы обнаружены у 17 пациентов, количество тофусов составило от 1 до 30 больных. Общее количество пораженных суставов досигало в среднем от 8,5 [4; 20] (максимально до 52), количество обострений суставной подагры в течение последних 12 месяцев – 4 [2; 10], длительность обострений составила 1,2 [1; 2] недели, ИТ подагры – 3,2 [2,4; 4,6]. У обследованных пациентов с подагрой отмечена гиперурикемия (в среднем 514 [420; 600] мкмоль/л), уровень мочевой кислоты в моче был нормальным (3,8 [2,9; 5] мкмоль/сут); констатировано также снижение клиренса МК (5,4 [3,9; 7] мл/мин).
Были зарегистрированы прямые корреляции уровня МК крови с наличием тофусной подагры, количеством тофусов (R = 3, р < 0,05), общим количеством пораженных суставов (R = 4, р < 0,01), рентгенологической стадией суставного поражениия (R = 3, р < 0,05), индексом тяжести подагры (R = 6, р < 0,01) и наличием АГ (R = 4, р < 0,01).
В целом наличие тофусов было сопряжено с более тяжелым течением подагры. В пользу этого свидетельствовали отмеченные у больных с тофусами большие длительность заболевания (8 [5; 15] против 4 [2; 9] лет, р < 0,01), общее количество пораженных суставов (20 [10; 36] против 6 [2; 13], р < 0,01), более частые обострения (7 [4; 12]/год против 3 [2; 6]/год, р < 0,01), высокий ИТ подагры (5,2 [4,1; 6,4] против 2,7 [2,3; 3,2], р < 0,01), урикемия (562 [517; 614] против 502 [407; 578] мкмоль/л, р < 0,05).
АГ коррелировала с наличием тофусов (R = 0,3, р < 0,05), ИТ подагры и урикемией (R = 0,4, р < 0,01). Результаты сопоставления показателей, характеризующих тяжесть течения подагры, в зависимости от наличия АГ представлены в табл. 1.
Было установлено, что урикемия нарастала по мере увеличения стадии АГ, составив 454 [355;504] мкмоль/л у пациентов (n = 15), не имевших АГ, 520 [395; 578] мкмоль/л при АГ I степени (n = 10), 534 [467; 614] мкмоль/л при АГ II стадии (n = 31), 593 [ 543; 618] у пациентов (n = 9) с АГ III стадии
(р < 0,05). Увеличение урикемии было также зарегистрировано по мере нарастания ИТ подагры.
Показатели, характеризующие выраженность АГ, коррелировали с таковыми, характеризующими обмен мочевой кислоты (табл. 2). Выраженность АГ и ИТ подагры коррелировала с гиперурикемией.
Взаимосвязь АГ с урикемией подтвердили результаты регрессионного анализа. Полученное уравнение регресса выглядело следующим образом: МК крови = 386,1 + 103,9 × степень АГ. Тяжесть подагры и АГ коррелировали также с продолжительностью существования АГ и суставного синдрома (табл. 3).
Среди пациентов с АГ, возникшей после дебюта суставной подагры, определена обратная корреляция СКФ со степенью АГ (R = -0,7, р = 0,006). Тем не менее величина СКФ в этой группе больных по-прежнему оставалась нормальной – 100,2 [92,9; 117,2] мл/мин/1,73 м2.
Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют, что тяжесть суставной подагры нарастает одновременно с увеличением выраженности АГ. Очевидно, что наибольшие стаж и выраженность суставной подагры сопряжены с наиболее высокой АГ, что закономерно ухудшает
прогноз этой категории пациентов.
Таблица 3. Характеристика клинико-лабораторных показателей у пациентов с подагрой в зависимости от наличия АГ.
С одной стороны, гиперурикемия может способствовать нарастанию АГ за счет вовлечения почечного тубулоинтерстиция. С другой стороны, сама по себе АГ, усугубляя дисфункцию почечного тубулоинтерстиция за счет его гипоперфузии, обусловливает нарастание урикемии за счет
снижения канальцевой экскреции МК [6, 16, 17]. В целом ГУ и АГ способствуют прогрессированию тубулоинтерцтиального фиброза [7, 16].
С учетом полученных корреляций степени и стадии АГ с уровнем МК крови и принимая во внимание полученное уравнение регресса можно предположить у больных подагрой влияние АГ на выраженность гиперурикемии, что способствует дальнейшему прогрессированию основного заболевания. Эти данные свидетельствуют в пользу необходимости своевременного обследования, направленного на выявление гиперурикемии у пациентов с АГ и АГ у больных суставной подагрой. АГ, таким образом, даже при сохранной функции почек может косвенно отражать тяжесть суставной подагры. При этом больные АГ, дебютировавшей позже суставной подагры, отличаются максимально тяжелым ее течением; кроме того, по мере увеличения стадии АГ у них отмечена тенденция к
снижению СКФ, позволяющая отнести указанных больных к категории максимального риска развития хронической болезни почек.