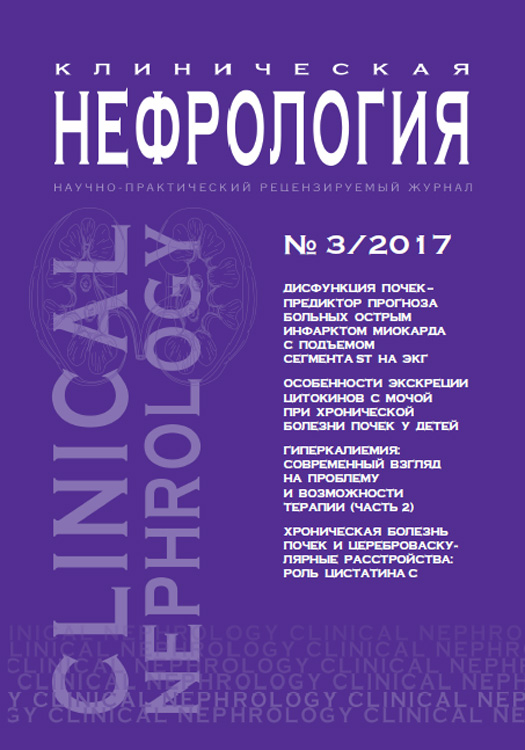Острое повреждение почек (ОПП) – это синдром нарастающего по стадиям острого поражения почек: от минимальных изменений почечной функции до ее полной утраты. ОПП часто развивается у пациентов в критическом состоянии и, являясь в таких случаях независимым фактором риска смерти, связан с высокой смертностью. Несмотря на значительный прогресс в области медицинской науки и практики, на протяжении последних 30 лет высокая смертность продолжает оставаться в диапазоне от 28 до 90%. Частота летальных исходов зависит от возраста пациентов, этиологии и тяжести ОПП, характера основной и сопутствующей патологии, профиля отделения интенсивной терапии и ряда других факторов. Среди пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии (ЗПТ), отмечаются максимальные показатели смертности, которые достигают 50–70% [10].
В современной клинической практике «золотым» стандартом в диагностике ОПП остается оценка динамики креатинина крови [11]. Однако повышение данного показателя зависит от многих факторов, поэтому он не информативен в первые часы развития ОПП. В связи с этим был проведен ряд исследований, посвященных определению маркеров ОПП, ассоциированных с ранней стадией ОПП и не зависящих от фильтрационной функции почек [12]. Обнаружение подобных биомаркеров позволило диагностировать синдром ОПП на ранних стадиях [13].
Биомаркеры – это соединения, которые продуцируются в канальцевом эпителии почек и в повышенных количествах выделяются в мочу при ОПП. К таким соединениям относятся цистатин-С, интерлейкин-18, молекула почечного повреждения-1 (КIМ-1) [14–16], Na+/H+обменник типа 3 (NHE-3), а также ряд ферментов, обычно локализующихся в щеточной каемке проксимальных канальцев и др., в т.ч. и нейтрофилжелатиназа-ассоциированный липокалин (липокалин-2, neutrophil gelatinase-associated lipocalin) [17]. Нейтрофил-желатиназа-ассоциированный липокалин (NGAL) обнаружен биологом L. Kjeldsen в 1993 г. [1]. Этот биомаркер имеет несколько названий: липокалин нейтрофилов (neutrophillipocalin – NL), липокалин-2 (lipocalin 2) и онкогенный белок 24p33 (oncogeneprotein 24p33). Липокалины – это белки, связывающиеся со специфическими рецепторами на поверхности клеток. NGAL представляет собой транспортный белок в виде мономера с молекулярной массой 25 kDa, гомодимер обладает массой м45 kDa, гетерогенные формы – 135 kDa. NGAL был назван так по месту первичного обнаружения (был выделен из супернатанта активированных нейтрофилов человека).
Липокалин-2 синтезируется в трубчатых эпителиальных клетках проксимального и дистального сегментов почки. Мономерные и гетеродимерные формы в основном производятся эпителиальными клетками, в то время как гомодимерные формы продуцируются активированными нейтрофилами [2]. При более подробных исследованиях выяснено, что, хотя NGAL действительно выходит в плазму из вторичных гранул активированных нейтрофилов, он может синтезироваться в различных органах и клетках. L. Kjeldsen и соавт. показали, что у здорового человека NGAL в крови не определяется либо имеется в небольшой концентрации в различных тканях или органах с активированными эпителиальными клетками [1]. Первые сведения о том, что NGAL может синтезироваться в почках, появились еще в 1989 г. – до того, как маркер был выделен из активированных нейтрофилов, после проведения серии исследований на мышах и крысах. Белок 24p3, являющийся мышиным гомологом липокалина-2, как оказалось, синтезируется именно в почках. При заражении вирусом SV40 синтез 24p3 в почках возрастал в 14–20 раз [3]. Позднее обнаружилось «драматическое» повышение синтеза NGAL в клетках проксимальных канальцев крысы как при нарушениях, связанных с индуцируемой реперфузией ишемией [4], так и в случаях поражения нефротоксическими соединениями [5]. На основании полученных данных сделан вывод, согласно которому у человека и лабораторных животных уровень NGAL резко возрастает в плазме, почках и в моче в ответ на почечные повреждения [6].
Механизм повышения NGAL при почечных повреждениях изучался на молекулярном уровне. Промоторная область, регулирующая экспрессию гена NGAL, имеет участок связывания с различными факторами, регулирующими транскрипцию, важнейшим из которых является NF-κB [7]. Центральную роль в обеспечении выживания поврежденных ренальных клеток и их дальнейшей пролиферации играет то, что фактор быстро активируется в почечных канальцах после острого повреждения почек (ОПП) и стимулирует транскрипцию гена NGAL, а также повышение его синтеза. Это говорит о таких функциях NGAL при развитии повреждений ренального эпителии, как восстановление эпителия и предотвращение дальнейшего развития ОПП [6, 8].
NGAL связывается с ферментом, называемым желатиназой Б нейтрофилов, известной как нейтрофильная коллагеназа IV типа или матриксная металлопротеиназа-9, ММП-9 относится к семейству железосодержащих протеолитических ферментов, которые синтезируются в большинстве тканей и при этом разрушают внеклеточный белковый матрикс клеток. Комплекс NGAL–MMП-9 (массой 92 kDA) встречается не только в различных тканях, но и в моче. В норме ММП-9 обеспечивает контролируемое ремоделирование соединительной ткани или обмен соединительного тканевого матрикса [4].
С помощью животных моделей показано, что NGAL стимулирует дифференцировку эпителия в эмбриональных ренальных тканях, способствуя перемещению стромальных интерстициальных клеток-предшественников на периферию развивающейся почки. Это приводит к дифференцировке мезенхимальных предшественников, образующих похожие на нефрон структуры, в которых затем экспрессируются специфические маркеры, характерные для клубочков, проксимальных канальцев, петель Генле и дистальных канальцев. Эти процессы стимулируются и регулируются различными клеточными сидерофорами, связывающимися с NGAL [6].
Также в культивируемых клетках собирательных трубок NGAL стимулирует преобразование эпителиальных клеток в тубулярные структуры. Однако способность NGAL индуцировать дифференцировку не ограничивается только эмбриональными ренальными клетками. Он способен стимулировать дифференцировку 4T1-Ras-трансформированных мезенхимальных опухолевых клеток, в которых в итоге появляются белковые маркеры, характерные уже для эпителиальных клеток [9]. Таким образом, при стимулировании определенным образом соответствующими сидерофорами NGAL в норме принимает важное участие в индукции формирования эпителиальных характеристик у ранее неэпителиальных клеток и влияет на преобразование структуры уже образовавшегося эпителия. При ОПП NGAL из плазмы крови поступает в почки, фильтруется и реабсорбируется в проксимальных канальцах. Доказано, что при повреждении ренальных канальцев происходит повышение уровня NGAL как в сыворотке (в 7–16 раз), так и в моче (в 25–1000 раз) [5, 18]. При ишемии, воспалении, стрессе, тубулярном некрозе почек источниками высоких плазменных уровней NGAL являются клетки иммунной системы (нейтрофилы, макрофаги и др.), гепатоциты, адипоциты, клетки предстательной железы, клетки почечных канальцев, а также клетки эпителия респираторного и пищеварительного тракта [7].
Несмотря на свободную фильтрацию NGAL-плазмы клубочками, он в большой степени реабсорбируется в проксимальных канальцах за счет эндоцитоза. Радиоактивно меченный (Йод125), NGAL, введенный в кровоток, затем обнаруживается в проксимальных канальцах, но практически не попадает в мочу, хотя и обнаруживается в ней в количествах, не превышающих 0,2% от введенной концентрации [19].
При ОПП NGAL синтезируется в дистальном нефроне. Четко показано, что при ОПП происходит быстрое и значительное повышение (в 1000 раз) синтеза мРНК, кодирующей NGAL, в восходящем колене петли Генле и в собирательных трубках. Это выяснилось при обнаружении места первичного ишемического повреждения почек (проксимальные канальцы), а также повышенных уровней белка NGAL, которые обнаруживаются в постишемических почках и локализуются именно в лизосомальном компартменте поврежденных проксимальных канальцев.
Прямое измерение уровней NGAL в почечной вене при ОПП показало, что в результате такого массированного синтеза NGAL именно в дистальном нефроне и последующей его секреции именно «ренальый» NGAL и составляет наибольшую фракцию NGAL в моче. Синтезируемый в почках пул NGAL в кровообращение не поступает, а экскретируется в мочу. Любая экскреция NGAL в мочу происходит, только когда она связана с повреждением проксимальных ренальных канальцев (что предотвращает реадсорбцию NGAL) и/или с повышением синтеза NGAL в почках de novo [19].
Было обнаружено, что введение мышам перед острым ишемическим тубулярным повреждением комплекса NGALсидерофор–железо защищало эпителиальные канальцевые клетки и смягчало падение почечных функций. При этом такой NGAL-сидерофорный комплекс уменьшал апоптоз почечного эпителия после его ишемического повреждения. Таким образом, при ОПП повышенный плазменный NGAL абсорбируется в проксимальных канальцах и в мочу не секретируется, а «ренальный» NGAL синтезируется в тонких восходящих окончаниях петли Генле и в собирательных трубках и поступает в мочу [19].
В работах M. Haase и J. Mishra показано, что концентрация NGAL как в моче, так и в плазме крови увеличивается пропорционально тяжести и длительности почечного повреждения. Маркер определяется как в сыворотке крови, так и в моче [5, 20]. Повышенный синтез NGAL в деградирующих тканях позволяет считать, что этот белок принимает участие, с одной стороны, в процессе апоптоза, с другой – в повышении выживаемости поврежденных клеточных структур.
При различных типах нормального и нарушенного связывании NGAL с MMП-9, которое может регулироваться взаимодействием с катионами железа, может происходить:
1) восстановление поврежденного эпителия (предполагают, что это одна из «нормальных» функций NGAL как белка острой фазы воспаления);
2) стимулирование злокачественного роста и метастазирования;
3) ремоделирование атеросклеротических бляшек;
4) ремоделирование миоцитов при ишемических повреждениях миокарда.
Во всех этих случаях уровни NGAL в плазме и/или в моче повышаются.
uNGAL как маркер острой фазы воспаления
При инфекциях и/или воспалении (особенно при воспалении, связанном с бактериальными инфекциями) плазменные уровни NGAL повышаются весьма быстро. Измерение сывороточного NGAL позволяет отличать бактериальные инфекции от вирусных. При вирусных инфекциях уровни NGAL в сыворотке составляли 9,78 +/-45,30 мкг/л, при бактериальных – 404,14 +/-355,02 мкг/л, в плазме – 47,81 +/-18,18 и 45,46 +/-194,32 мкг/л соответственно. Измеренные в тех же условиях уровнями С-реактивного белка (СРБ) хорошо коррелировали с уровнями NGAL [21]. Позднее выяснилось, что исходно повышенные при поступлении уровни NGAL у педиатрических пациентов с инфекциями у большинства (89%) снижались уже к 3–4-му дню, в то время как уровни СРБ к этому времени снижались только у 17% больных. В целом с длительностью проявления симптомов инфекции коррелировали уровни СРБ, но не уровни NGAL. Полагают, что NGAL значительно повышается при активно текущих инфекциях [22]. Однако плазменные уровни NGAL повышаются и при острой фазе воспаления, не связанного с инфекциями, вызываемого, например, инъекцией мышам дексаметазона. При этом NGAL, как и большинство острофазных белков, синтезируется в печени [23].
Одной из нормальных функций NGAL является его участие в острофазном ответе на воспаление. В ряде экспериментальных работ показано, что NGAL может являться переносчиком комплекса «железо–сидерофор» – небольших органических молекул, продуцируемых организмами бактерий и человека. Связываясь с комплексами «железо–сидерофор», NGAL может включаться в антибактериальную защитную систему организма и ограничивать рост бактерии путем отделения железа и лишения бактерии этого важного элемента [19]. Для поглощения необходимых бактериям катионов железа Fe3+ микробные клетки обладают специальным механизмом. В аэробных условиях при рН=7,0 железо представлено в виде слаборастворимого гидроксидного комплекса Fe3+. Для обеспечения себя железом микроорганизмы выделяют специальные соединения, переводящие железо в растворимую форму. Эти соединения (т.н. сидерофоры) связывают ионы Fe3+ в комплекс и в таком виде транспортируют его внутрь микробной клетки. NGAL способен связывать бактериальные сидерофоры, нагруженные катионами железа, и ограничивать рост бактерий [24]. Ярким доказательством бактериостатической роли NGAL являются трансгенные мыши, лишенные гена, кодирующего NGAL, и тем самым – белка NGAL. Эти мыши легко инфицировались различными грамотрицательными бактериями и быстро погибали. Интересно, что NGAL может повышаться у инфицированных пациентов с низким, даже не поддающимся подсчету количеством нейтрофилов, связанным с лейкемией (как до начала лечения, так и уже подвергнутой терапии). Это указывает на то, что при инфекциях источником NGAL являются не только нейтрофилы. Действительно, уровни сывороточного NGAL (s-NGAL) очень слабо коррелируют с количеством нейтрофилов у критических больных [25].
ОПП может возникать при гемолитическом уремическом синдроме (ГУС), связанном с диареей. В исследовании, охватившем множество научных центров, показано, что у детей со связанным с диареей ГУС, уровни u-NGAL, измеренные в первые дни госпитализации, с большой чувствительностью предсказывали тяжесть ОПП и необходимость диализа. Наблюдение проводилось за 34 детьми с ГУС. Все пациенты были разделены на 2 группы, согласно уровням u-NGAL: <200 и ≥200 нг/мл. Тяжесть ГУС была сходной в обеих группах пациентов. Двадцать восемь (58%) пациентов имели повышенную экскрецию u-NGAL. Однако пациенты с повышенными уровнями u-NGAL имели более высокие концентрации азота мочевины в крови и сывороточного креатинина и нуждались в диализе. Десять (29%) человек нуждались в диализе в течение пяти дней после госпитализации. Авторами данного исследования был сделан вывод, согласно которому у большинства пациентов с ГУС, связанным с диареей, отмечается повышение экскреции u-NGAL, что свидетельствует об имеющихся повреждениях ренального тубулярного эпителия. Уровни u-NGAL ниже 200 нг/мл в течение пяти дней госпитализации могут быть дополнительным маркером, свидетельствующим о менее тяжелом поражении почек [26].
NGAL при трансплантации почки
Ранняя диагностика осложнений, возникающих при трансплантации почки (отторжение трансплантата, инфекционные осложнения, побочное действие иммуносупрессивных средств, рецидив гломерулонефрита в трансплантате и развитие его de novo, урологические и сосудистые осложнения), согласно проведеным исследованиям, возможна с помощью определения NGAL.
Haase-Fielitz и соавт. обследовали 33 пациента, из которых 20 пациентам была выполнена трансплантация трупной почки, 13 – от живого донора. Авторы исследования определяли NGAL, креатинин, гемоглобин, уровень глюкозы крови как до операции, так и через 12 часов, 24, через 48 и 72 часа после трансплантации. Также они оценивали функции почки и необходимость проведения диализа в течение недели после операции. По результатам исследования у 6 пациентов отмечено отсроченное восстановление почечной функции, в связи с чем им проведен гемодиализ в течение первой недели после трансплантации. У 9 пациентов было замедленное восстановление функции трансплантата, к 7-м суткам отмечено снижение сывороточного креатинина. У 23 пациентов с выявленным снижением сывороточного креатинина более чем на 70% наблюдалось быстрое восстановление функции трансплантата без проведения заместительной почечной терапии (ЗПТ).
У пациентов с отсроченным восстановлением функции трансплантата NGAL и креатинин крови были значительно выше, чем у других пациентов. При немедленном восстановлении функции трансплантата различий по уровню креатинина не было, однако динамика NGAL у них была различной. Таким образом, авторы показали, что NGAL служит более точным маркером острого повреждения почек, чем динамика сывороточного креатинина [20, 27, 28]. Вместе с тем плазменная концентрация NGAL в первые сутки не позволяет отличать больных с отсроченным восстановлением функции трансплантата. Проведенные исследования показали, что наиболее информативно определение s-NGAL через 24 часа после трансплантации почки. Измерение u-NGAL позволяет выделить пациентов, которые нуждаются в проведении гемодиализа в течение первой недели. Наиболее информативным был уровень NGAL на исходе первых суток после трансплантации почки. Lebkowska и соавт. в своем исследовании также обнаружили, что снижение NGAL при восстановлении почечной функции происходит быстрее, чем нормализация сывороточного креатинина крови [29].
I.E. Hall и соавт. в проспективном когортном мультицентровом исследовании обнаружили, что определение u-NGAL в первые несколько суток после трансплантации трупной почки позволяет выявить пациентов с быстрым, медленным и отсроченным восстановлением функции трансплантата. Динамика этого маркера дала возможность разделить больных на нуждающихся в проведении гемодиализа в течение первой недели и тех, кому возможно проведение данной операции в более поздние сроки (до 3 месяцев) [14, 30].
При проведении 10 наблюдательных исследований было обнаружено, что определение NGAL в плазме крови или в моче позволяет диагностировать субклинические формы ОПП, при этом повышение NGAL не коррелировало с динамикой креатинина крови. Таким пациентам чаще проводили заместительную почечную терапию, и, к сожалению, у них возрастал риск неблагоприятных исходов [31]. Данные исследования показали возможность использования NGAL на субклинических стадиях ОПП, когда общепринятые клинические и диагностические критерии не информативны.
В связи с тем что NGAL в большей степени выделяется с мочой, а не поступает в систему кровообращения, корреляций между уровнем сывороточного NGAL и степенью выраженности отсроченного восстановления функции трансплантата получено не было. Таким образом, основным результатом проведенных исследований можно считать полученные данные о том, что плазменный уровень NGAL может служить ранним маркером острого повреждения трансплантата и показанием к проведению сеансов гемодиализа.
u-NGAL – предиктор посттравматического ОПП
В одном из исследований 31 взрослому пациенту с множественными травмами, не имевшему предшествовавших сердечных или почечных заболеваний, проводили измерение уровней u-NGAL. Измерения проводились при поступлении пациентов в стационар, через 24 и 48 часов. Были получены данные, согласно которым пограничный уровень u-NGAL, измеренный в первый день после поступления и предсказывавший развитие ОПП при множественных травмах, составил >25 нг/мл и имел чувствительность 0,91, специфичность – 0,95. У пациентов, в течение пяти дней развивших ОПП, уровни u-NGAL при поступлении составили 155,5 (50,5–205,9) нг/мл (против 8,0 [5,7–17,7] нг/мл у пациентов без ОПП) и персистировали на этом уровне в течение 2 дней [32].
NGAL – ранний маркер развития ОПП при операциях, связанных с применением аппарата искуственного кровообращения (АИК)
Согласно данным научной медицинской литературы, у 10% больных, которым выполняют кардиохирургические операции с использованием АИК, наблюдается почечная дисфункция [33], которая проявляется повышением сывороточного креатинина до уровня более 2 мг. Пятой части пациентов, у которых наблюдается ОПП, требуется проведение заместительной поддерживающей терапии. У этих пациентов летальность достигает 20%, а среди больных, которым проводят диализ, частота летального исхода доходит до 75%.
Клиническая ценность u-NGAL впервые была доказана у пациентов детского возраста, которым выполняли кардиохирургические операции. Его участником стал 71 ребенок после оперативной коррекции врожденных пороков сердца. По результатам этого исследования выяснилось, что u-NGAL обладает высокой прогностической ценностью в отношении риска развития ОПП уже через 2 часа после окончания операции с АИК, особенно при осложнениях, приводящих к ишемии почек [5].
В исследовании J.L. Koyner и соавт. было показано развитие ОПП после длительного АИК. Из 72 взрослых пациентов у 47% развилось ОПП. Уровни u-NGAL, измеренные через 6 часов, предсказали развитие ОПП [34].
M. Bennettа и соавт. выполнили обследование 196 пациентов, у 51% из которых после аортокоронарного шунтирования (АШК) развилось ОПП. Через 2 часа после операции до повышения концентрации креатинина в сыворотке крови уровень u-NGAL возрос в 15, а через 4–6 часов – в 25 раз. Степень повышения u-NGAL коррелировала с тяжестью и длительностью ОПП, а также потребностью в остром гемодиализе и летальностью больных [35, 36].
В других крупных исследованиях ретроспективной оценки отдаленных результатов кардиохирургических вмешательств также была подтверждена высокая прогностическая значимость NGAL при определении данного маркера в крови и моче [14, 30].
Заключение
Представленные результаты исследований демонстрируют достоверную эффективность определения NGAL в качестве биомаркера не только для прогнозирования риска развития ОПП разной этиологии как у детей, так и у взрослых, но и для раннего обнаружения ренальных тубулярных повреждений. Открытие причин и механизмов повышения уровней NGAL в сыворотке и в моче привело исследователей к предположению, будто NGAL может стать таким же эффективным маркером острого поражения почек, как и тропонин для инфаркта миокарда.С учетом простоты и доступности метода его можно рекомендовать к определению у пациентов с рисками развития ОПП.