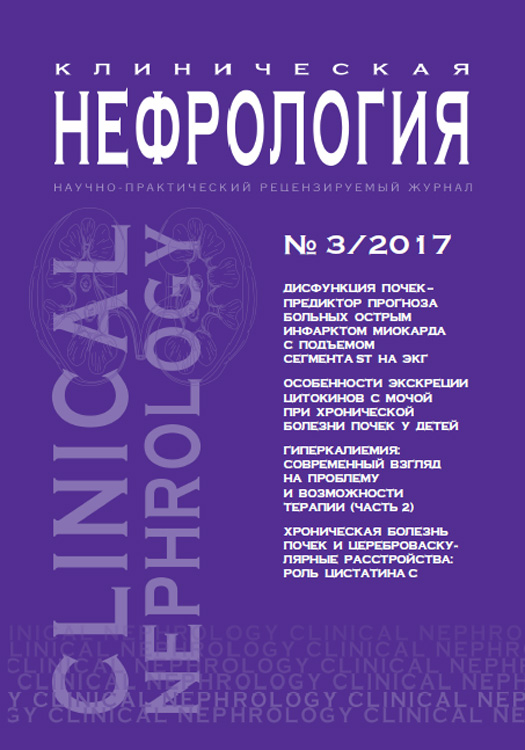Исследованиями последних лет установлено, что в додиализном периоде хронической болезни почек (ХБП) частота сердечно-сосудистых нарушений возрастает в несколько раз, достигая максимума на диализном этапе [1–3]. В свою очередь у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) присутствие ренальной дисфункции также в значительной степени ухудшает прогноз [3–5]. В связи с ощутимым увеличением доли пациентов, страдающих почечной дисфункцией и нуждающихся в проведении дальнейшей высокозатратной терапии (гемодиализ или трансплантация почки), продолжается разработка новых терапевтических стратегий, направленных на торможение прогрессирования патологии почек [1, 2]. Накопившиеся за последние 10 лет новые данные в области экспериментальной и клинической нефрологии послужили основанием разработки современной концепции нефропротективной терапии [6, 1, 2].
Важно отметить, что в реальной клинической практике далеко не всегда удается проводить эффективную нефропротективную терапию больных ХБП, т.к. вследствие поздней диагностики и оценки выраженности ренальной дисфункции более половины почечных пациентов в момент постановки диагноза уже не нуждаются в проведении активного метода консервативного лечения из-за того, что патологический процесс в почках приобретает необратимый и прогрессирующий характер [7]. При ХБП невоспалительного генеза, которая протекает длительно и часто бессимптомно, выраженная ренальная дисфункция, как правило, диагностируется поздно [8]. Вместе с тем при замедлении СКФ ≤70 мл/мин показатель креатинина плазмы крови может не изменяться, за исключением случаев развития анемии при «нефротических» персистирующих протеинуриях [9]. В связи с чем повсеместно продолжаются научные изыскания, направленные на поиск методов, позволяющих своевременно выявлять дисфункцию почек и тем самым в будущем предупреждать развитие сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). Как в клинической практике, так и в научных исследованиях функциональное состояние почек традиционно оценивают с помощью определения уровня креатинина в плазме крови или оценки клиренса креатинина с использованием специальных формул [1]: Cockcroft-Gault [10], Jelliffe [11], MDRD (Modification of Dietin Renal Diseaseformula) [12]. Однако, как уже отмечалось выше, уровень креатинина плазмы крови не надежный показатель функции почек, т.к. на его концентрацию могут влиять такие экстраренальные факторы, как возраст, пол, расовая и этническая принадлежность, мышечная масса и характер питания [13–15]. В связи с этим для оценки функции почек давно назрела необходимость использования других биохимических маркеров плазмы крови, более точно отражающих ренальную функцию [1]. С этой целью недавно в качестве альтернативного маркера для оценки СКФ предложено определение цистатина С сыворотки крови, представляющего собой негликозилированный белок семейства ингибиторов цистеиновых протеаз, который продуцируется всеми ядерными клетками организма [16, 17].
История открытия цистатина С начинается с 1979 г., когда впервые было выдвинуто предположение, будто его концентрация в сыворотке может служить в качестве маркера СКФ [18]. Однако исследование уровня данного ингибитора цистеиновых протеаз прочно входит в клиническую практику только начиная с 2005 г. после разработки метода расчета СКФ с помощью формул с использованием цистатина С [19]. Белок цистатин С продуцируется в организме с постоянной скоростью [18], а благодаря небольшой молекулярной массе свободно проходит через клубочковую мембрану и затем полностью подвергается реабсорбции в проксимальных тубулярных клетках [20]. Примечателен тот факт, что концентрация цистатина С в плазме крови относительно стабильна и легко поддается измерению [21]. Кроме того, содержание цистатина С в плазме крови почти не зависит от возраста, пола, этнической принадлежности, мышечной массы, особенностей питания и физической активности [22, 23]. В то же время цистатин С не проходит через плаценту, а однократного определения его уровня в плазме крови бывает достаточно, чтобы вычислить СКФ [24]. Перечисленные характеристики, по мнению многих авторов, делают цистатин С идеальным эндогенным маркером СКФ.
M. Cantinotti и соавт. (2017), основываясь на динамическом измерении содержания цистатина С в плазме крови среди детей, подвергшихся оперативным вмешательствам, считают цистатин С более точным и ранним, чем креатинин крови, маркером, предшествующим снижению СКФ [25]. Схожие данные были представленыи в ряде исследований, где получены убедительные доказательства того, что цистатин С – более чувствительный индикатор поражения почек по сравнению с креатинином плазмы крови [26, 27].
В более ранних исследованиях указывалось, что значительное повышение содержания цистатина С может быть информативным уже на начальных этапах формирования ХБП [28, 29]. Данный факт нашел свое подтверждение в недавно проведенном обсервационном исследовании, где высокий уровень цистатина С плазмы, измеренный интероперационно, служил лабораторным предиктором прогрессирования ренальной дисфункции у доноров после нефрэктомии [30]. По мнению C.L. Saldanha и соавт. (2017), повышение уровня цистатина С у беременных также может быть связано с риском развития у них почечной дисфункции [31]. Иными словами, чем более выражена ренальная дисфункция, тем хуже цистатин С фильтруется в почках и выше его уровень в крови [16]. В связи с чем считается предпочтительным использование определения СКФ по цитастину С и для оценки выраженности гломерулосклероза у пациентов с первичной гломерулярной патологией [32].
Цистатин С помимо диагностической может играть и прогностическую роль, которая заключается в предсказании снижения СКФ и возникновения ССЗ в будущем. Так, в наблюдательном исследовании Л.И. Аниконовой и соавт. (2012) показано, что у лиц, подвергшихся чрескожному коронарному вмешательству, снижению СКФ всегда предшествовало увеличение концентрации цистатина С в плазме крови [29]. В другой работе (Боровкова Н.Ю. и соавт., 2016) продемонстрировано, что у более 44% пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) в ассоциации с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) обнаруживаются признаки почечной дисфункции, оцененные по величине СКФ и увеличению содержания цистатина С в плазме крови [33]. В данном исследовании также показано, что комбинированная антигипертензивная терапия с использованием периндоприл+амлодипин помимо достоверного снижения артериального давления (АД) способствовала уменьшению уровня цистатина С плазмы крови и приросту показателя СКФ.
Важно отметить, что с позиции нефроцеребральных взаимоотношений риск развития ЦВЗ при ХБП заметно возрастает в случае ее ассоциации с ГБ и ХСН. Высокое АД, как известно, является сильным риск-фактором, который приводит к поражению церебральных сосудов малого диаметра с возникновением лакунарных инфарктов, и прогрессирующим повреждением белого вещества полушарий головного мозга [34]. Так, связь повышения уровня цистатина С плазмы с развитием ЦВЗ, в частности когнитивных нарушений, показана в исследовании K. Yaffe и соавт. (2008). В описательном анализе авторы установили, что в подгруппе лиц с высоким содержанием цистатина С достоверно чаще регистрируются случаи сахарного диабета (СД) 2 типа, ГБ и мозговых инсультов [35]. Вместе с тем показано достоверное увеличение риска возникновения когнитивных расстройств (за 7-летний период наблюдения) в подгруппе лиц с высоким содержанием цистатина С. Примечательно, что подобные данные были получены и в другой работе, где выявлена четкая взаимосвязь цистатина С с артериальной ригидностью [37] и гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) [38]. Более высокая прогностическая значимость увеличения содержания цистатина С по сравнению с креатинином плазмы крови и соотношением альбумин/креатинин в утренней моче была получена также в наблюдательном исследовании M.Y. Oh и соавт. (2014). По мнению авторов этого исследования, оценка содержания цистатина С у лиц с церебральным инсультом в остром периоде может служить более чувствительным индикатором для выявления степени тяжести инсульта [38].
Масса исследований посвящена изучению связи цистатина С плазмы с развитием атеросклероза и его осложнений. Так, в одном из ранних исследований A. Skalska и соавт. (2007) установили связь между концентрацией цистатина С и увеличением толщины интима-медиа сонных артерий [39], что дало основание предполагать возможную ассоциацию данного ингибитора цистеиновых протеаз с развитием атеросклероза. Последующие исследования, выполненные в этом направлении, полностью подтвердили данное предположение. Так, в проспективном исследовании PRIME (Prospective Epidemiologic Study of Myocardial Infarction) продемонстрирована достоверная взаимосвязь между содержанием цистатина С плазмы и развитием ишемической болезни сердца (ИБС) [40]. По данным другого исследования, цистатин С имел независимую ассоциацию с атеросклерозом и его выраженностью [41, 42]. Кроме того, в хорошо известном исследовании NHANES III (Third National Healthand Nutrition Examination Survey) отмечена прямая взаимосвязь между уровнем цистатина С плазмы крови и риск-факторами атеросклероза [43].
В ряде других исследований высокий уровень цистатина С повышал риск развития смерти от всех причин, в т.ч. от цереброваскулярных событий [71], и способствовал формированию асимптомных инфарктов у лиц пожилого возраста [44]. В работе Arpegard. (2015) продемонстрирована одновременная ассоциация цистатина С как с атеросклеротическими поражениями артерий, так и с повышенным содержанием провоспалительных цитокинов и триглицеридов [45]. Годом позже аналогичные результаты были получены в исследовании X. Dong и соавт. (2016), где концентрация цистатина С и интерлейкина-6 была достоверно выше и тесно коррелировала с объемом ишемии при мозговом инсульте у лиц, страдавших ГБ [46]. И наконец, в недавно опубликованной работе T. Kobayashi и соавт. (2017) показано, что увеличение содержания цистатина С в плазме крови может служить предиктором развития атеросклероза артерий каротидного бассейна [47].
Значительный интерес представляет работа Z. Xu и соавт. (2017), в которой показано, что у пациентов с церебральным инсультом и атеросклеротическими поражениями каротидных артерий отмечается достоверное повышение уровней креатинина и цистатина С плазмы крови [48]. При этом заслуживает особого внимания тот факт, что в настоящем исследовании пациенты контрольной и опытной групп по параметрам гемодинамики, полу, возрасту и липидному профилю были схожими. Кроме того, в обеих группах с одинаковой частотой встречались случаи СД 2 типа. На этом основании авторы делают вывод: концентрация цистатина С может служить самостоятельным фактором выраженного атеросклеротического поражения магистральных артерий, питающих головной мозг. В другом исследовании Т.J. Kim и соавт. (2016) установили, что среди лиц старшего возраста повышение цистатина С плазмы крови ассоциируется с более выраженным неврологическим дефицитом у пациентов, перенесших инсульт, в отсутствие значимой почечной дисфункции [49].
В работе А.П. Реброва и соавт. (2012) установлены взаимосвязи между уровнем цистатина С плазмы, с одной стороны, и СКФ, индексом массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), наличием атеросклеротических бляшек в сонных артериях, утолщением комплекса интима-медиа и размерами полостей сердца, с другой [50]. Кроме того, выявлена ассоциация уровня цистатина С плазмы с возрастом (старше 50 лет), ожирением, стадией и риском артериальной гипертензии (АГ). Вместе с тем среди лиц мужского пола (ниже 50 лет) уровень цистатина С плазмы оказался выше, чем у женщин. Выяснилось, что значительная часть цистатина С синтезируется адипоцитами подкожной и висцеральной жировой ткани [51], вследствие чего наличие ожирения вызывало значительное повышение продукции цистатина С адипоцитами [52]. Этот факт нашел отражение в недавно проведенном исследовании, где показано повышение уровня цистатина С плазмы крови у лиц СД 2 типа на ранней стадии ХБП [53]. Кроме того, установлена прямая корреляционная взаимосвязь содержания цистатина С плазмы с показателем индекса массы тела у обследованных лиц. В свою очередь ожирение, как известно, сопровождается развитием эндотелиальной дисфункции [54], повышением жесткости артерий [55], утолщением интима-медиа [56], почечной дисфункции и увеличением АД.
Общеизвестно, что сердце и головной мозг – наиболее ранние органы-мишени при АГ и ХБП. С этих позиций весьма важными представляются исследования роли цистатина С плазмы крови в возникновении ГЛЖ у пациентов с ХБП. Как и следовало ожидать, уровень цистатина С положительно коррелировал с развитием ГЛЖ, что и было продемонстрировано в работе М.П. Васильевой и соавт. (2015). В частности, наряду с выявлением тесной взаимосвязи между содержанием цистатина С плазмы крови и ГЛЖ уровень данного белка позволял прогнозировать (с чувствительностью 78% и специфичностью 62%) развитие ГЛЖ у пациентов с ХБП недиабетической этиологии на преддиализной стадии заболевания [57]. По результатам многофакторного анализа, уровень цистатина С независимо коррелировал и с ИММЛЖ.
Таким образом, как уже отмечалось выше, двунаправленная модель развития сердечно-сосудистого континуума основывается прежде всего на триаде «сердце–почки–головной мозг», т.е. структурное изменение артериального русла и появление ГЛЖ неизбежно сопровождаются развитием хронической миокардиальной дисфункции, снижением СКФ и существенным увеличением цереброваскулярного риска [1, 2].
Повышенные уровни цистатина С плазмы крови оказались характерными и для пациентов, страдающих ХСН. Следует отметить, что прогностическая ценность измерения уровня цистатина С, особенно среди лиц с ХСН с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ЛЖ) и почечной дисфункцией, предполагалась еще в более ранних исследованиях [58]. Безусловно это служило хорошим посылом для проведения более углубленных поисков в направлении диагностики, установления взаимосвязи между клиниколабораторными параметрами и возникновением ХБП, основанных на оценке уровня плазменного цистатина С. Так, П.Г. Кравчун и соавт. (2014), изучив 103 пациента с ХСН в сочетании и без сочетания с почечной дисфункцией, установили, что в группе ХСН+ХБП увеличение уровня креатинина выявляется у 58% больных, цистатина С – в 78% случаев, снижение СКФ – у 69,1% пациентов, а при ХСН без ХБП – в 42, 64 и 53,9 % случаев соответственно [59]. Отдельного внимания заслуживает работа В.Д. Сыволап и соавт. (2014), где показано, что при ХСН ишемической этиологии снижение глобальной функции ЛЖ ассоциируется с ростом уровня цистатина С [60]. Кроме того, авторами установлено, что имеется прямая взаимосвязь между уровнем цистатина С и маркерами фиброза, такими как галектин-3, ST 2. Уместно будет отметить в связи с этим, что галектин-3 активно участвует в процессах развития фиброза миокарда, являющегося ключевым в формировании ремоделирования сердца [61] с дальнейшим образованием рубцовой ткани [62]. Повышение уровня галектин-3 и цистатина С ассоциированы с неблагоприятными исходами для пациентов с ХСН [63]. Вместе с тем у больных с сохраненной фракцией выброса ЛЖ цистатин С имел прямую корреляционную связь с показателями структурно-функционального ремоделирования ЛЖ и обратную – с функциональным состоянием почек. Очевидно, что тяжесть склеротических изменений в почках, особенно на начальных этапах ее формирования, отражается на уровне не только цистатина С, но и скорости структурной перестройки сердечно-сосудистой системы [2]. С другой стороны, было показано, что СКФ у пациентов с острым коронарным синдромом, рассчитанная на основе концентрации цистатина С, имела прогностическую значимость только при ее нормальном уровне или незначительном снижении (СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2), тогда как при умеренном или значительном нарушении функции почек она утрачивала свою значимость [64]. Е.Ю. Панфилова и соавт. (2014) на основании обследования 82 больных декомпенсированной ХСН различной этиологии и риск-факторами ХБП показали, что в отличие от креатинина плазмы крови и СКФ уровень цистатина С был существенно выше у больных декомпенсированной, чем компенсированной, ХСН [65]. Следует отметить, что в данном исследовании среди больных ХСН, включенных в исследование, более чем у половины случаев регистрировалась фибрилляция предсердий (ФП). Кроме того, более 13% случаев исследуемой выборки составили пациенты, которые в анамнезе уже перенесли мозговой инсульт.
Общепризнанно, что ФП служит существенным фактором риска инсульта из-за тромбоэмболии церебральных артерий фрагментами тромба из полостей сердца вследствие замедления тока крови [66]. Частота ФП у пациентов с ХБП в несколько раз выше, чем в общей популяции. В свою очередь ФП часто ассоциируется с нарушением функции почек и способствует прогрессированию ХБП [67]. Это может быть объяснено тем обстоятельством, что ФП, вопервых, всегда сочетается с ухудшением внутрипочечной гемодинамики, которая может в еще большей степени усугубляться при эмболии внутрипочечных артерий тромбами; во-вторых, сопряжена с активацией почечного фиброгенеза [68]. Обсуждая связь цистатина С плазмы с развитием ССЗ, нельзя не остановиться на результатах проспективного исследования ARISTOTLE (Apixaban for Reductionin Stroke and Other Thromboembolic Eventsin Atrial Fibrillation), где объектом изучения стали лица, страдавшие ФП и находившиеся на длительной антикоагулянтной терапии [69]. В этом исследовании показано, что рост концентрации цистатина С в плазме крови ассоциируется с риском возникновения инсультов и других осложнений у больных ФП. Таким образом, в дополнение к увеличению риска развития инсульта и тромбоэмболии диагноз ФП при уже существующей ХБП является риск-фактором раннего ухудшения функции почек и развития терминальной стадии заболевания, что в свою очередь ухудшает прогноз и приводит к увеличению риска развития ЦВЗ и смертности.
Содержание цистатина С у пациентов с почечной недостаточностью, впервые поступивших на программный гемодиализ, в среднем превышало норму в 2–2,5 раза [70]. Принимая во внимание тот факт, что цистатин С служит независимым предиктором сердечно-сосудистых событий, нам хотелось бы остановиться на результатах исследований, выполненных в последние годы. Так, N. Hashimoto и соавт. (2015), изучив данные эхокардиографии пациентов с устойчивой и неустойчивой формами ФП, установили, что расчетный анализ с использованием цистатина С в плазме крови может служить предиктором церебральных расстройств при ХБП на додиализной стадии [71]. Е.С. Филимонов и соавт. (2017) на основании обследования 1217 коренных и некоренных жителей Горной Шории с последующим выделением подгруппы лиц с изученной концентрацией цистатина С выявили большую долю лиц с нарушениями жирового обмена среди обследованных с повышенной концентрацией цистатина С, более значимую в группе некоренного населения [72]. В то же время авторы сообщают об ассоциации повышенного уровня цистатина С плазмы с гиперхолестеринемией. При корреляционном анализе выявлены обратная связь между повышенным значением цистатина С и расчетной СКФ и прямые связи между показателями АД. К.С. Шафранская и соавт. (2013), оценив клиническую значимость цистатина С в прогнозировании риска возникновения внутрибольничных осложнений у больных ИБС, подвергшихся коронарному шунтированию, установили, что увеличение риска по шкале Euro SCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) ассоциировалось с ростом уровня цистатина С в плазме крови [73]. Вместе с тем концентрация цистатина С у пациентов с неблагоприятным исходом была достоверно выше по сравнению с лицами с благоприятным исходом за сутки до оперативных вмешательств и на 7-е сутки после него. Важно отметить тот факт, что в данном исследовании существенных различий в концентрации креатинина плазмы крови и СКФ как до, так и после операции между пациентами группы низкого, среднего и высокого рисков по шкале Euro SCORE получено не было. В другом исследовании P. Liu и соавт. (2014) продемонстрировано, что в когорте пациентов, страдавших устойчивой и неустойчивой ФП, выявлено достоверное повышение уровня цистатина С, которое ассоциировалось с ростом уровня высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ), по сравнению с контрольной группой [74]. Кроме того, значимая положительная корреляционная связь было установлена между концентрацией цистатина С и величиной систолического АД, содержанием высокочувствительного СРБ и креатинина плазмы крови, и отрицательная связь – с показателями систолической функции ЛЖ.
Принимая во внимание вышеизложенные данные, сегодня определение уровня цистатина С в плазме крови рассматривается как потенциальный маркер функционального состояния почек [75–77]. В широком понимании ценность измерения уровня цистатина С в плазме крови при патологии почек обусловлена прежде всего возможностью выявления пациентов с высоким риском прогрессирования кардиальных и цереброваскулярных событий среди когорты лиц с нормальными показателями СКФ и креатинина [78, 79–83]. Таким образом, ранняя диагностика почечной дисфункции, адекватная оценка цереброваскулярного риска с использованием показателя цистатина С плазмы крови, а также выбор стратегии лечения рассматриваются как основные детерминанты повышения выживаемости и снижения смертности больных ХБП на додиализной стадии заболевания.