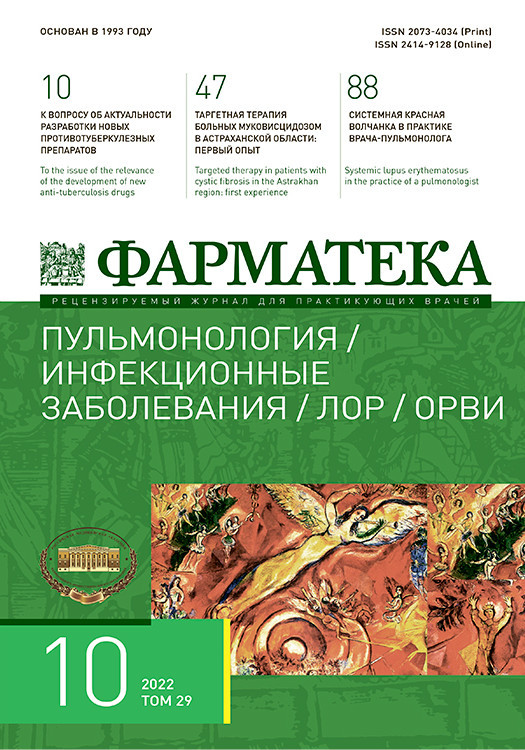Актуальность
Несмотря на глубокие положительные сдвиги в борьбе с туберкулезом в мире, нельзя не отметить рост количества случаев туберкулеза с множественной широкой и полной лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ и ПЛУ-ТБ соответственно), когда возбудитель либо устойчив к препаратам 1-го ряда, либо обладает дополнительной резистентностью к фторхинолонам и хотя бы к одному из препаратов второго ряда, либо вообще не поддается терапии всеми известными противотуберкулезными препаратами (ПТП) [1–3]. Случаи ПЛУ-ТБ описаны в Китае, Индии, Африке и Восточной Европе, а доля МЛУ-ТБ в этих регионах достигает 45–47% [4, 5]. Есть мнение, согласно которому не последняя роль в формировании популяции возбудителя с ПЛУ принадлежит развивающимся на фоне терапии ПТП нежелательным побочным реакциям, которые могут служить основанием для отмены ПТП, что чревато риском роста устойчивости возбудителя [6, 7].
Цель обзора – обосновать актуальность и востребованность разработки новых противотуберкулезных препаратов.
Материал. Поиск публикаций осуществлялся в базах открытого доступа Medline, PubMed, Current Contents, Popline, EMBASE, E-library. В обзор включено 46 источников.
Результаты
В 2019 г. были опубликованы общие международные клинические рекомендации Американского торакального общества, Американского центра по контролю заболеваний (CDC), Европейского респираторного общества, Американского общества инфекционистов по лечению МЛУ ТБ и ШЛУ ТБ [8]. Использование укороченных курсов терапии не выявило клинических преимуществ по сравнению с длительными курсами на основании исследования STREM и не рекомендовано, когда речь идет о терапии МЛУ и ШЛУ ТБ [9, 10]. Рекомендации основаны на результатах мета-анализа индивидуальных данных (IPDMA) 12 тыс. пациентов из 25 стран [11].
ВОЗ настоятельно не рекомендует ограничиваться добавлением какоголибо одного нового препарата к схеме лечения, не приносящей результатов. Помимо этого в измененных в 2019 г. рекомендациях ВОЗ была пересмотрена классификация препаратов второй линии терапии, не рекомендованы курсы без инъекционных форм препаратов, предпочтение отдается индивидуальным схемам, которые приходят на смену стандартным.
Общепринято мнение, согласно которому одной из причин роста МЛУ ТБ является замедленное внедрение в практику новых ПТП, эффективных в отношении МЛУ МБТ [12]. За последнее десятилетие появились новые ПТП, однако среди них превалируют зарубежные даже на рынке РФ: бедаквилин (Janssen), деламанид (Otsuka), претоманид (Mylan) [13, 14]. Вне российского рынка зарегистрированы претоманид и сутезолид. Из отечественных оригинальных препаратов, разрешенных к применению, можно назвать только перхлозон (Фармасинтез) [15, 16].
Бактерицидное действие бедаквилина (TMC207), представителя класса диарилхинолинов, основано на специфическом ингибировании протонной помпы АТФ-синтазы (аденозин5’трифосфат-синтаза), основного фермента, участвующего в процессе клеточного дыхания M. tuberculosis. Бедаквилин не имеет перекрестной резистентности с другими ПТП [17, 18]. Препарат на основе бедаквилина (торговое наименование «Сиртуро») прошел ускоренный процесс регистрации, при это производитель названого ПТП обязался провести подтверждающее рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое мультицентровое клиническое исследование III фазы на больных МЛУ-ТБ и с положительным результатом микроскопии мокроты. Оно должно изучить отдаленные исходы, включая случаи неэффективного лечения, рецидивы и смертельные исходы, по меньшей мере в течение 6 месяцев после завершения лечения. Завершена оценка подобного исследования в соседней Беларуси, в котором 179 пациентов составили группу, получавшую лечение по режимам с бедаквилином, а в группу, получавшую стандартную химиотерапию, вошли 746 пациентов. В первой группе диагноз ШЛУ-ТБ был поставлен 76,5% пациентов, во второй – 22,4%. Благоприятные результаты лечения были достигнуты 92,2% пациентов, получавших бедаквилин, и 57,4% пациентов, получавших лечение по стандартным режимам химиотерапии (р<0,001). Отмечено, что режимы химиотерапии с использованием бедаквилина высокоэффективны и имеют приемлемые характеристики безопасности для лечения пациентов с М/ШЛУ-ТБ в обычных программных условиях в Беларуси [19].
Вместе с тем уже сейчас в АзиатскоТихоокеанском регионе описаны случаи клинической устойчивости возбудителя к бедаквилину. На основе данных биоинформатики создана модель прогнозирования устойчивости к этому препарату, которая бесплатно доступна через удобный вебинтерфейс под названием SUSPECTBDQ «Предписание структурной восприимчивости бедаквилина» [20]. Авторы полагают, что этот сервис поможет эффективно использовать бедаквилин и минимизировать распространение клинической резистентности к этому ПТП [21].
Деламанид (Дельтиба, зарегистрирован в России в мае 2020 г.) – производное нитри-дигидро-имидазооксазола, подавляет синтез клеточной стенки микобактерий, ингибируя биосинтез никотинамидадениндинуклеотида (НАД), эффективен в отношении внутримакрофагальных бактерий. Препарат разрабатывался с перспективой более короткой продолжительности лечения (период полувыведения – 38 часов) и более низкого профиля токсичности, нежели прочие ПТП. Описывается потенциальная синергия ингибиторов биосинтеза НАД с несколькими ПТП в перспективной новой комбинированной терапии.
Несмотря на то что они не нацелены непосредственно на биосинтез необходимого кофактора НАД, некоторые пролекарства ТБ либо требуют активации фермента биосинтеза НАД, либо образуют токсичный химический аддукт с самим НАД (H). Например, пиразинамид требует действия никотинамидазы (PncA), часто называемой пиразинамидазой, для превращения в его активную форму. PncA играет важную роль в утилизации и переработке NAD. Поскольку большинство штаммов, устойчивых к пиразинамиду, PncA-дефектны, комбинация с расположенными ниже по цепочке молекулами, блокирующими НАД, может усиливать активность пиразинамида и, возможно, преодолевать механизм устойчивости. Изониазид, этионамид и деламанид образуют аддукты НАД в их активной форме, частично нарушая метаболизм редокс-кофактора [22–24]. Деламанид расценивается как наиболее мощный на сегодняшний день лекарственный агент, воздействующий на энергетический метаболизм микобактерии. На сегодня для этого препарата перекрестная устойчивость с другими ПТП не выявлена, метаболизируется цитохромами печени (CYPA4) [25, 26].
Рост числа штаммов M. tuberculosis с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, а также коинфекция вирусом иммунодефицита человека обострили потребность в новых ПТП. Многочисленные проблемы, связанные с M. tuberculosis, в частности медленный рост и уровень патогенности 3, препятствовали использованию этого микроорганизма в попытках первичного скрининга лекарственных веществ в прошлые годы. Биоинформатические технологии, текущие знания о физиологии и лекарственной чувствительности микобактерий позволили выработать высокопроизводительные стратегии фенотипического скрининга ПТП. Акцент делается на приоритезацию попаданий, включая их подробное биологическое и химическое профилирование, а также на статус разработки перспективных лекарственных препаратов-кандидатов, обнаруженных с помощью фенотипического скрининга. Одним из таких препаратов является претоманид, аналог азомицина, первоначально выделенный из Streptomyceseurocidicus. Он активен в отношении реплицирующихся и нереплицирующихся микобактерий, что дает возможность сокращать продолжительность лечения. Препарат обладает многоцелевым механизмом действия: ингибирует биосинтез клеточной стенки, препятствуя синтезуметоксии кетомиколиновой кислотам и провоцируя респираторное отравления за счет высвобождения оксида азота (NO) во время метаболизма ПТП [27, 28]. Претоманид, как и деламанид, – пролекарство и восстановительно активируется деазафлавин(F420)-зависимой нитроредуктазой (ДЗН). Дезнитроимидазольные продукты ДЗН генерируют реактивные формы азота, включая NO, который способствует антимикобактериальной активности в анаэробных условиях [29, 30]. Претоманид был обнаружен корпорацией Pathogenesis и разработан Глобальным альянсом по разработке ПТП. Недавно FDA приняла на рассмотрение новую заявку на лекарство для претоманида и предложило использовать его как часть нового режима в сочетании с бедаквилином и линезолидом для лечения ШЛУи МЛУ-ТБ [31].
Сутезолид является вторым многообещающим производным оксазолидинона (наряду с линезолидом), и в настоящее время завершается фаза II клинических испытаний этого ПТП. Он является атиоморфолиниловым аналогом линезолида и действует путем связывания с рибосомой-23S, что приводит к ингибированию биосинтеза белка микобактерии. Производные оксазолидинона ингибируют начальную фазу трансляции из-за невозможности создания комплекса 70S. Сутезолид при пероральном применении превращается в активный сульфоксидметаболит. Предполагается, что этот активный метаболит проявляет более сильную, чем сутезолид, активность в отношении внеклеточного туберкулеза. Однако было обнаружено, что исходная молекула в 17 раз более эффективна в борьбе с внутриклеточным туберкулезом у пациентов с легочными заболеваниями [32]. Новые испытанные комбинации препаратов, состоящие из новых противотуберкулезных агентов, были исследованы в доклинических испытаниях на мышиной модели туберкулеза. Наиболее активные схемы включали бедаквилин, сутезолид и претоманид [33–35].
Одна из новых разработок ПТП принадлежит российским ученым. Перхлозон (тиоуреидоиминометилпиридиний), механизм действия которого окончательно не установлен, однако бесспорно его избирательное действие, подавляющее возбудителя ТБ [36, 37]. Опыт применения препарата перхлозон в комбинации с пятью ПТП к 6 месяцам химиотерапии способствовало «прекращению бактериовыделения и положительной рентгенологической динамике у всех пациентов основной группы. Мониторинг и оценка нежелательных реакций не выявили достоверных различий в их числе, за исключением эндокринных и аллергических нарушений на фоне приема перхлозона в комбинации с другими препаратами. Все нежелательные реакции соответствовали легкой и умеренной степеням тяжести, корригировались на фоне симптоматической терапии и не требовали отмены лечения [38, 39]. С учетом тяжелой ситуации с М/ШЛУ-ТБ в Бурятии новый отечественный ПТП был применен в терапии пациентов с ШЛУ. Переносимость перхлозона значимо не отличалась от таковой ПТП резервного ряда. Была достигнута клиническая положительная динамика состояния больных, вплоть до полного исчезновения симптомов интоксикации и уменьшения явлений дыхательной недостаточности одновременно с рентгенологическим регрессом воспалительных изменений в легких ко времени перевода на поддерживающую фазу, чаще во второй группе: у 22 (73,3%) больных по сравнению с 12 (42,9%) больными первой группы, где лечение не включало приема перхлозона (p<0,05). Спустя 4 месяца лечения были получены отрицательные результаты бактериоскопии: в первой группе у 10 (35,8%) пациентов, во второй у 17 (56,6%). Применение перхлозона в комплексном лечении больных туберкулезом с ШЛУ возбудителя, прогностически неблагоприятной категории в отношении излечения туберкулеза, достоверно позволяет достичь клинико-рентгенологической стабилизации хронического туберкулезного процесса у 42,9% и прекращения бактериовыделения у 35,8% больных [40].
Не случайно одно из ключевых мест при разработке ПТП занимает изучение его безопасности. Неблагоприятные воздействия препаратов этой группы могут быть опасными для жизни, например нефротоксичность аминогликозидов, кардиотоксичность фторхинолонов, желудочно-кишечная токсичность этионамида или пара-аминосалициловой кислоты, токсичность циклосерина в отношении центральной нервной системы [41, 42].
Возможно, в силу нежелательных реакций доступные в настоящее время лекарства и вакцины не оказали существенного влияния на борьбу с туберкулезом. Кроме того, появление лекарственно-устойчивого туберкулеза считается кризисом общественного здравоохранения, поскольку некоторые штаммы теперь устойчивы ко всем доступным лекарствам. К сожалению, растущее бремя устойчивости к антибиотикам сопровождается уменьшением усилий по разработке новых антибактериальных препаратов. Природные источники являются привлекательной отправной точкой для поиска ПТП, поскольку они чрезвычайно богаты химическим разнообразием и могут обладать исключительной антимикробной активностью [43].
Кроме того, не следует забывать, что на протяжении тысячелетий хозяин и патоген развили механизмы и взаимоотношения, которые влияют на исход инфекции. Понимание этих эволюционных взаимодействий и их влияния на клиренс бактерий или патологию хозяина проложит путь к рациональной разработке новых терапевтических средств, способствующих усилению защитной реакции хозяина. Эти методы лечения, направленные на хозяина, недавно продемонстрировали многообещающие результаты против M. tuberculosis, добавив эффективности имеющимся в настоящее время ПТП. Есть определенные надежды на стимуляцию врожденного иммунитета с одновременным подавлением провоспалительной функции макрофагов [44]. В последнее время были предприняты большие усилия для разработки новых/улучшенных методов лечения путем модулирования ответов хозяина на ТБ (т.е. терапии, направленной на хозяина). Аутофагия – это внутриклеточный катаболический процесс, который помогает поддерживать гомеостаз или устранять вторгшиеся патогены посредством процесса лизосомной деградации. Активация аутофагии различными лекарствами или агентами может представлять собой многообещающую стратегию лечения против инфекции M. tuberculosis, даже для устойчивых к лекарствам штаммов. Важные медиаторы активации аутофагии включают передачу сигналов рецептора витамина D, путь активированной АМФ протеинкиназы, активацию сиртуина-1 и ядерные рецепторы. Подходы с применением методов биоинформатики позволили выявить многочисленные природные и синтетические соединения, которые усиливают противомикробную защиту от инфекции M. tuberculosis посредством аутофагии. Понимание механизмов и ключевых игроков, участвующих в модуляции антибактериальной аутофагии, обеспечит инновационные улучшения в противотуберкулезной терапии с помощью методов, направленных на усиление аутофагии [45].
В настоящее время разрабатывается ряд новых лекарственных средств, относящихся к новым классам противомикобактериальных агентов, в т.ч. в качестве адъювантной терапии.
Например, «глутамил-цистеинилглицин динатрия» – адьювант химиотерапии, рекомендован для лечения туберкулеза с МЛУ возбудителя [46, 47]. Основными эффектами препарата являются повышение доступности микобактерий туберкулеза воздействию антимикобактериальных препаратов. Глутамил-цистеинил-глицин динатрия увеличивает активность секретируемых макрофагами эндогенных антимикробных пептидов (дефенсинов и каталецидинов), повышает функционально-метаболическую активность легочных макрофагов, способствует освобождению клеток от внутриклеточно паразитирующих микобактерий, делая их доступными действию эффекторов иммунной системы и антимикобактериальных препаратов, включая изониазид, рифампицин, рифабутин, циклосерин, капреомицин, левофлоксацин. При негативной трансформации генов katG и inhA, глутамил-цистеинил-глицин динатрия инициирует реакцию трансформации изониазида-пролекарства в фармакологически активную форму – изоникотиновую кислоту. Кроме того, экспериментальные исследования доказали, что глутамил-цистеинил-глицин динатрия обладает выраженным гепатопротекторным действием, способствует коррекции структурно-метаболических нарушений, возникающих в печени. При его применении улучшается регенерация легочной ткани и повышаются поглотительная и переваривающая функции макрофагов [48].
В связи с многообразием проблем лечения ТБ на фоне МЛУ возбудителя оправдан активный поиск новых противотуберкулезных средств, одним из которых является препарат группы диарилхинолинов с рабочим названием «тиозонид» (производитель АО «Фармсинтез»), по химической структуре представляющий собой -{1R,2S+1S,2R}-1-(6-бром-2-хлорхинолил-3-ил)-4-(диметиламино)2-(нафталин-1-ил)-1-фенилбутан-2-ол (порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета, не растворим в воде, не растворим в изотоническом растворе, 1 г/л растворим в метаноле, 10 г/л – в хлороформе (раствор облучают на ультразвуковой бане в течение 10 минут).
Это инновационное лекарственное средство, показавшее специфическую противотуберкулезную активность в доклиническом исследовании. Тиозонид продемонстрировал противотуберкулезную активность, сравнимую на модели генерализованного туберкулеза у мышей с таковой у препарата 2-го ряда рифампицином. Продолжительность жизни животных при этом была выше 120 суток (максимальное время наблюдений), тогда как в контроле животные погибали в среднем на 25-й день. Показано также, что имел место синергизм с ПТБ 1-го ряда изониазидом, рифампицином и этамбутолом, приводящий практически к полному выздоровлению подопытных животных [49, 50]. Поскольку тиозинид относится к диарилхинолинам, которые принято считать одними из оптимальных кандидатов на роль ПТП для МЛУ-ТБ [51], актуальным остается всестороннее изучение его эффективности, переносимости и безопасности [52, 53] с целью внедрения нового препарата отечественного производства в практику терапии туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.