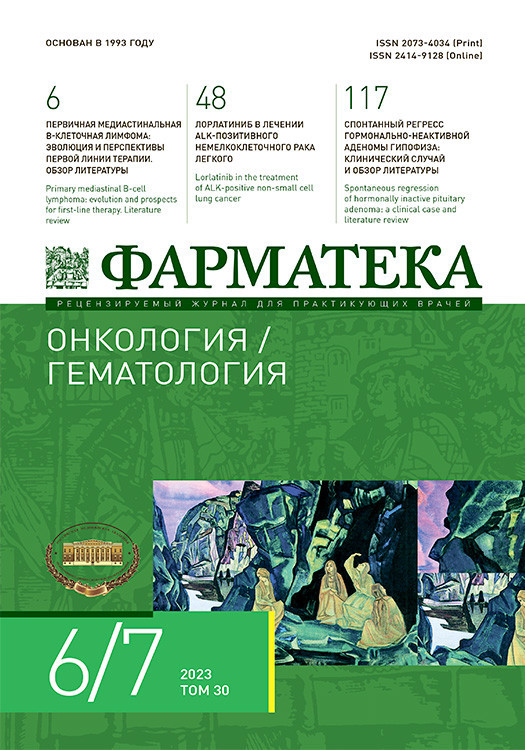Введение
Онкологические новообразования различных локализаций занимают лидирующие позиции в структуре заболеваемости взрослого населения. Разработку новых методов лечения осуществляют ученые по всему миру ежедневно. Однако эффективность инновационных способов терапии злокачественных образований не всегда обеспечивает их хорошую переносимость. В настоящее время наряду с поиском противоопухолевых агентов стремительно развивается поддерживающая терапия онкологических больных на всех этапах лечения. Среди них меньше всего развита сопроводительная терапия во время химиотерапии (ХТ).
ХТ является основным и наиболее часто используемым методом лечения онкологических больных. Она применяется как во время радикального комплексного лечения с целью исключения микрометастазирования, так и при распространенных злокачественных процессах для увеличения длительности и качества жизни больного.
В современной медицине онкологи используют огромное количество цитотоксических агентов, которые имеют как различный противоопухолевый потенциал, так и широкий профиль токсичности. Стоит отметить, что при проведении ХТ одновременно применяют несколько препаратов для достижения максимальной эффективности лечения, а это также приводит к суммированию их нежелательных эффектов.
5-фторурацил – один из распространенных противоопухолевых препаратов [1–7]. Он представляет собой антиметаболит пиримидинового основания – урацила, входящего в состав нуклеотидов на азотистых основаниях. 5-фторурацил чаще применяется в лечении опухолей желудочно-кишечного тракта, а также при раке молочных желез, кожи, мочевого пузыря. Введение препарата проводится циклично (каждый 14–21-й день) на протяжении 3–6 месяцев [4–6].
Впервые 5-фторурацил был синтезирован в 1957 г. R. Duschinsky et al. в процессе работ по синтезу различных фторпиримидинов [7, 8].
C. Heidelberger et al. изучили свойства 5-фторурацила и обнаружили среди них противоопухолевое действие, объявив научному сообществу об открытии нового класса цитотоксических препаратов [7, 9]. Первые клинические испытания 5-фторурацила провели F. Ansfield и А. Сurrеrу в 1959 г. [7, 10]. 5-фторурацил стал первым и одним из основных препаратов в классе антиметаболитов, который применяется при широком спектре онкологических заболеваний, несмотря на 60-летнюю историю.
Период полураспада 5-фторурацила составляет до 20 минут. Этот факт стал ведущим при разработке схем лечения новообразований ободочной кишки и ректосигмоидного отдела с включением фторурацила. A. de Gramount et al. в 1997 г. разработали популярную схему лечения, названную по автору: лейковорин 200 мг/м2 внутривенно в/в капельно в 1, 2-й дни; 5-фторурацил 400 мг/м2 в/в струйно 1, 2-й дни; 5-фторурацил 600 мг/м2 в/в 22-часовая инфузия 1, 2-й дни каждые 2 недели [11]. Лейковорин является составной частью данного лечения, т.к. усиливает противоопухолевую активность 5-фторурацила за счет увеличения внутриклеточного пула фолатов и стабилизирования комплекса тимидилатсинтетазы и фтордезоксиуридинмонофосфата [11].
В дальнейшем были разработаны пероральные формы фторпиримидинов. К ним относятся капецитабин и фторафур. Однако, несмотря на удобство в их применении, отсутствие необходимости во внутривенном доступе и постоянном медицинском наблюдении во время лечения, данные препараты не смогли полностью заменить 5-фторурацил и вытеснить его из повседневной практики онколога.
Кроме эффективной противоопухолевой активности 5-фторурацил обладает множеством побочных действий, которым подвержены система кроветворения, печень, кожа, нервные клетки, сердечно-сосудистая и мочевыделительная системы. Но чаще всего страдает слизистая оболочка желудка и кишечника [12–15]. При применении 5-фторурацила частота развития данных нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта составляет около 30–40% [12, 15]. Все эти побочные эффекты могут возникать одновременно друг с другом, что в результате приводит к поливисцеральной патологии, весьма ранней для 5–8% пациентов, и даже к смерти 0,8% пролеченных пациентов [16].
Цель обзора
Усовершенствование представления о возможности возникновения токсичности на фоне лечения 5-фторурацилом больных злокачественными опухолями различных локализаций и факторов, усугубляющих их течение, а также освещение проблемы профилактики и лечения гастроинтестинальных нежелательных явлений.
Методы
Критерии приемлемости
Выполнен обзор литературы по теме «Гастроинтестинальная токсичность при терапии с включением 5-фторурацила».
Критерии включения
Оригинальные полнотекстовые статьи, систематические обзоры, множественные клинические случаи, опубликованные с 2010 по 2022 г., посвященные токсичности ХТ, содержащей 5-фторурацил; возникновению гастроинтестинальной токсичности 5-фторурацила, методам ее профилактики и лечения; факторам, усугубляющим повреждение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Критерии исключения
Работы, опубликованные до 2010 г., содержащие малодоказательные данные, отдельные клинические случаи.
Источники информации
Поиск актуальных научных публикаций по ключевым словам проводился в базах данных PubMed, Google Scholar, eLibrary.ru и российских профильных журналах, относящихся к терапии, хирургии, гастроэнтерологии, онкологии за период с 2010 по 2022 г.
Стратегия поиска
Поиск осуществлялся по следующим ключевым словам для русскоязычных источников: «5-фторурацил», «химиотерапия», «поддерживающая терапия», «мукозит», «рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела», «гастроинтестинальная токсичность». Для англоязычных источников: «5-fluorouracil», «chemotherapy», «mucositis», «colon and rectosigmoid cancer», «gastrointestinal toxicity», «Helicobacter pylori». Анализ проводился без использования специализированных программных средств; полнотекстовые источники, отобранные в ходе анализа рефератов, легли в основу текущего обзора.
Получение и анализ данных
Данные, взятые из каждого источника, включали токсичность при терапии 5-фторурацилом, ее вид и степень выраженности, факторы, усугубляющие мукозиты желудочно-кишечного тракта, размер выборки, год публикации, клинические результаты.
В представленном систематическом обзоре сводная статистика не использовалась по причине неоднородности материала, что препятствовало проведению статистической обработки и мета-анализа.
Результаты
Отбор и характеристика исследований
Всего было найдено 122 литературных источника, соответствовавших выбранным ключевым словам, из которых для последующего анализа были отобраны 50 публикаций. Выбранные литературные данные систематизировались и в дальнейшем использовались для подготовки настоящего обзора.
Результаты отдельных исследований
Мукозит – это одно из самых частых нежелательных явлений, развивающихся при проведении ХТ. Развитие данного осложнения может приводить к значительным финансовым затратам. Эксперты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что около 22% пациентов, получающих лечение по поводу солидных опухолей, у которых развился мукозит 3–4-й степеней, нуждаются в проведении полного парентерального питания [17]. Наличие мукозита 3–4-й степеней дважды увеличивает риск перевода больного в отделение интенсивной терапии и удлиняет сроки госпитализации при проведении очередного курса цитотоксического лечения в среднем на 7 суток [17].
Гастроинтестинальная токсичность 5-фторурацила изучалась во многих исследованиях при его монотерапии и совместно с другими препаратами.
В 2012 г. были опубликованы результаты открытого многоцентрового проспективного клинического исследования, проведенного на базе отделений химиотерапии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Башкирского республиканского клинического и Астраханского областного онкодиспансеров с 2008 по 2012 г. [18]. Целью исследования были изучение токсичности и противоопухолевой эффект химиотерапии в режиме mFOLFOX6 (5-фторурацил 400 мг капельно 2 часа+оксалиплатин 100 мг/м2 внутривенно в 1-й день и 5-фторурацил 2400 мг/м2 внутривенно инфузионно в течение 44 часов), в состав которого входит 5-фторурацил при лечении больных метастатическим раком толстого кишечника в первой линии. В результатах исследования представлена оценка токсичности с использованием критериев токсичности Национального института рака США в течение лечения. Более частым нежелательным явлением лечения была гастроинтестинальная токсичность, свойственная 5-фторурацилу, которая стала основной причиной задержки курсов химиотерапии. Согласно данным исследования, процент осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта распределился следующим образом: тошнота возникла у 37,5% больных, рвота у 10%, диарея у 32,5%, стоматит у 27,5%.
В 2019 г. опубликованы результаты ретроспективного исследования, в котором была изучена выраженность токсических проявлений у 84 больных метастатическим колоректальным раком при применении в их лечении режимов FOLFOX4 (оксалиплатин 85 мг/м2 1-й день, 5-фторурацил по 1000 мг/м2 1–2-й день, лейковорин 200 мг/м2 1–2-й день каждые 2 недели) и CAPOX (капецитабин 1000 мг/м2 2 раза в сутки 14 дней, оксалиплатин 130 мг/м2 1-й день каждые 3 недели). Нежелательные явления от ХТ развились у 79,8% изучаемых больных. Наиболее часто встречавшимися видами токсичности у пациентов, получавших фторпиримидин-содержащие режимы, были гастроинтестинальная (25%) и гематологическая (23,8%) [19].
Мы провели анализ клинических наблюдений Якутского республиканского онкологического диспансера, изучавших токсичность стандартной схемы ХТ, включившей 5-фторурацил, в отношении больных раком толстой кишки. В исследование включены 60 пациентов, которым проводилась цитотоксическая терапии по схеме 5-фторурацил 500 мг/м2 в/в в 1-й, 8, 15, 22, 29, 30-й дни; фолинат кальция в 1-й, 8, 15, 22, 29, 30-й дни, интервал между курсами – 2 недели. Всем больным суммарно проведено 387 курсов ХТ. Основной токсичностью, возникавшей у изучаемых пациентов, стала гастроинтестинальная. Чаще всего развивалась диарея (15%). Также возникали тошнота (13,3%) и стоматит (11,7%). Кроме нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдались гематологическая токсичность: лейкопения, анемия, тромбоцитопения [20].
В последнее время учеными активно ведутся работы по изучению генетических особенностей организма, которые могут влиять на эффективность и токсичность различных широко используемых лекарственных веществ. В 2018 г. Н.Н. Тимошкина и соавт. опубликовали результаты исследования полиморфизма генов UGT1A1 и DPYD у пациентов с колоректальным раком. Ген DPYD отличает высокий полиморфизм. В литературе описано несколько аллелей, кодирующих фермент с полной функциональной активностью. Дефицит фермента дигидропиримидин дегидрогеназы, наследуемый по аутосомно-рецессивному типу, служил основной причиной тяжелой и даже летальной токсичности лекарственных препаратов на основе 5-фторурацила. В этом случае разрушение препарата посредством фермента дигидропиримидин дегидрогеназы в организме ниже ожидаемого уровня (90%), а эффективная доза 5-фторурацила оказывалась выше в 5–10 раз, что вызывало острую токсическую реакцию. В исследование были включены 87 больных, получавших цитотоксическое лечение, включившее 5-фторурацил. На фоне терапии гастроинтестинальная токсичность развилась в 24% случаев. Кроме того, у 7% пациентов зафиксирована гематологическая токсичность, проявившаяся лейкопенией. Авторы сделали вывод: изучение расширенного набора клинически значимых полиморфизмов гена DPYD может повышать эффективность прогнозирования как риска токсичности, так и ее степени [21].
Суммируя перечисленные данные исследований, можно сделать вывод: применение 5-фторурацила сопряжено с высоким риском возникновения гастроинтестинальной токсичности. Кроме симптоматических проявлений данных нежелательных явлений (тошнота, рвота) могут возникать эрозивно-язвенные поражения слизистых оболочек верхних отделов пищевательного тракта, желудка и кишечника.
Воспаление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, возникающее вследствие проведения химиотерапии, называется мукозитом [12]. Появление мукозита является частым побочным эффектом противоопухолевой лечения. Клинически сопровождается болевым синдромом в животе, наличием язв на слизистых оболочках, тошнотой, рвотой. Вследствие этого происходит нарушение питания и адекватного поступления жидкости в организм, нарушается барьерная и секреторная функции желудочно-кишечного тракта [12]. Больной становится весьма уязвимым для инфекции, которая может оказаться фатальной. Все это ухудшает качество жизни пациента, а также приводит к увеличению интервалов между курсами лечения, редукции доз препаратов, в итоге отрицательно влияя на конечный результат противоопухолевого лечения и выживаемость [22].
Так как больные злокачественными новообразованиями различных локализаций составляют неоднородную группу людей с разным возрастом и коморбидностью, стоит рассмотреть иные причины, влияющие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. К основным этиологическим факторам относятся нарушение режима питания, вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем), профессиональные вредности, наличие аутоинфекции и т.д.
Кроме рассмотренных причин, способных вызывать мукозиты, налагающих свой отпечаток во время цитотоксического лечения 5-фторурацилом, данное нежелательное явление со стороны желудка и двенадцатиперстной кишки отягощает наличие у больных инфекции Helicobacter pylori (H. pylori) [23, 24]. Средняя распространенность H. pylori по всему миру составляет 50%: она выявляется приблизительно у 30–35% населения в детском возрасте и у 50–85% во взрослой популяции [25, 26]. В развивающихся странах показатель инфицированности высокий и составляет 80–90%. К странам с более низким уровнем относятся Австралия (20%), Северная Америка (30–40%), Западная Европа (30–50%) [25, 26]. В Российской Федерации данным микроорганизмом инфицировано 78,5%, что составляет более 112 млн человек [27].
История открытия H. pylori весьма интересна. Бактерия была впервые выявлена в 1875 г. на слизистой оболочке желудка человека немецкими учеными [28–30]. Но данное открытие не получило должного внимания ввиду отсутствия питательных сред для культивирования H. pylori [28, 30]. Чуть позже, в 1886 г., польский ученый Валерий Яворский обнаружил в промывных водах желудка человека бактерию и впервые предположил взаимосвязь этого микроорганизма с патогенезом заболеваний желудка. Российский профессор И.А. Морозов из Москвы также обнаружил спиралевидную бактерию на слизистой оболочке желудка при ваготомии в 1974 г. [28–30]. Однако питательных сред для ее роста у микробиологов не было и обнаруженные микроорганизмы снова были забыты.
И только в 1981 г. австралийские ученые Барри Маршалл и Робин Уоррен впервые смогли выделить и изолировать найденный микроорганизм в пробах слизистой оболочки желудка человека [28–30]. Бактерия была выделена у 11 пациентов и названа Campylobacter pyloridis (в настоящее время известна как Helicobacter pylori). Это открытие стало началом новой эры в микробиологии желудка.
В дальнейшем при проведении клинических наблюдений австралийские ученые обнаружили, что присутствие бактерий сопровождалось воспалительными процессами в желудке, характерными для гастрита. Медицинское научное сообщество скептически отнеслось к данному заявлению, т.к. считалось, что никакой микроорганизм не сможет выжить в агрессивной кислой среде желудка. Научные журналы отказывались печатать материалы исследований [29, 30]. Чтобы доказать свою правоту, Барри Маршалл провел эксперимент на себе. Он сознательно выпил содержимое чашки Петри с культурой бактерии H. pylori. В результате чего у Маршалла развился гастрит, а уже через 10 дней при проведении эндоскопии в желудке была обнаружена H. pylori. Таким образом Уоррен и Маршалл доказали правдивость результатов своей исследовательской работы. Но на этом эксперимент не закончился. Они вылечили диагностированный у Барри геликобактерный гастрит при помощи приема препаратов висмута и метронидазола в течение 14 дней. Данный результат показал эффективность антибиотиков в лечении воспалительных заболеваний желудка [28–30]. Только в 1994 г. Национальный институт здравоохранения опубликовал экспертное мнение, в котором утверждалось, что развитие рецидивирующих гастритов и язв желудка с повышенной кислотностью связано с инфицированностью человека микробом H. pylori, а также содержащее рекомендации о включении антибиотиков в терапевтические схемы лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки желудка [28–30]. В 1995 г. в России было зарегистрировано сообщество по изучению вопросов эпидемиологии, диагностики и лечения H. pylori, в которое вошли ученые разных специальностей [28].
За великое открытие Барри Маршалл и Робин Уоррен в 2005 г. были удостоены Нобелевской премии по медицине и физиологии [23]. Открытие H. pylori стало мощным толчком в исследованиях микробиологов, гастроэнтерологов, патоморфологов и кардинально изменило представление об этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний слизистой оболочки желудка.
H. pylori обладает микробиологическими характеристиками, которые позволяют ей выживать в крайне неблагоприятных условиях, таких как кислая среда желудка [31, 32]. Она обитает в глубине желудочных ямок и на поверхности эпителиальных клеток, в основном под защитным слоем слизи, выстилающем слизистую оболочку желудка. Helicobacter pylori также обнаруживается в клетках слизистой оболочки желудка. Сохранную слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки H. pylori не колонизирует. При частом закислении луковицы двенадцатиперстной кишки там возникают участки желудочной дисплазии, где может существовать H. pylori. Передача инфекции происходит в основном орально-фекальным путем, в частности через загрязненную воду и продукты питания [33]. Возможна также орально-оральная передача, о чем свидетельствует выделение бактерии в слюне и зубном налете [34].
Таким образом инфекция H. pylori является основной причиной гастрита и язвенной болезни. Спектр гастродуо-денальных заболеваний, связанных с инфекцией H. pylori, достаточно велик [33]. Она является причиной развития хронического гастрита в 85–90% случаев, язвенной болезни желудка в 87%, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в 95% [35]. У значительной части инфицированных субъектов (80–85%) развивается легкий гастрит тела или антрального отдела желудка, связанный с изменением желудочного гомеостаза, характеризующимся гипергастринемией при нормальных уровнях секреции желудочного сока [33]. У 10–15% инфицированных развивается распространенный антральный гастрит, при котором гипергастринемия связана с повышенной желудочной секрецией и возможным развитием язвы двенадцатиперстной кишки [33]. В меньшем проценте (примерно 1–2%) развивается распространенный гастрит тела желудка в ответ на инфекцию, связанную с многоочаговым атрофическим гастритом, повышенной гастринемией, гипохлоргидрией и возможным развитием аденокарциномы желудка [33].
С учетом данных, приведенных выше, можно сделать вывод: при наличии у больного инфицированности H. pylori, а также эрозивно-язвенных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе на фоне проведения ХТ, содержащей 5-фторурацил, риск развития гастроинтестинальной токсичности существенно увеличивается. А для лечения развившегося мукозита желудка и двенадцатиперстной кишки понадобится больше времени, что повлечет за собой увеличение отсрочки очередного курса химиотерапии и редукцию доз цитостатика.
Важным нюансом прогнозирования развития мукозитов является выделение факторов риска. Они могут быть обусловлены как проводимой терапией, так и особенностями больного: пол (чаще у женщин), возраст, нали-чие сопутствующих заболеваний, вредные привычки (алкоголь, курение), плохое питание [17]. Одним из отягощающих факторов является колонизация микроорганизмов пов-режденной слизистой оболочки, что приводит к обострению и усугублению мукозита [36]. Следовательно, деконтаминация бактериальной флоры занимает важную позицию в комплексном лечении данного нежелательного явления.
Классификация мукозитов в соответствии с критериями токсичности CTCAE v5.0 (Common Terminology Criteria for Adverse Events, 2017 г.) выглядит следующим образом [12]:
- 1-я степень: бессимптомное течение или легкие проявления. Назначения не требуются;
- 2-я степень: признаки умеренного воспаления (эритема, отечность, безболезненные изъязвления), показана щадящая диета;
- 3-я степень: признаки воспаления в сочетании с болевым синдромом, пероральное питание затруднено;
- 4-я степень: жизнеугрожающее состояние, показана срочная медицинская помощь;
- 5-я степень: смерть.
Рассматриваемую проблему усугубляет отсутствие общепризнанных методов и рекомендаций по профилактике и лечению гастроинтестинальных мукозитов.
В Рекомендациях Российского общества клинической онкологии (RUSSCO, 2021) по профилактике и лечению мукозитов желудочно-кишечного тракта не предоставлена информация по профилактике воспаления слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Но есть некоторые сведения по их лечению. К ним относятся адекватная гидратация, прием пищи в жидком и полужидком виде (при необходимости установка желудочного зонда), антибиотикотерапия при возникновении инфекции, вызванной патогенной флорой [12].
В.О. Саржевский и соавт. в своей статье приводит следующие принципы профилактики и лечения гастроинтестинальных мукозитов [17]:
- адекватные питьевой режим и инфузионная терапия;
- адекватное питание;
- учет возможности развития вторичной лактазной недостаточности;
- вероятность возникновения инфекции, вызванной патогенной микрофлорой;
- использование медикаментов, рекомендованных для профилактики и лечения мукозита.
Также автор делает следующий акцент: важную роль в лечении мукозитов желудка и кишечника играет обеспечение адекватного питания больного.
В рекомендациях Европейского общества медицинской онкологии 2015 г. опубликована единственная рекомендация, касающаяся мукозитов желудочно-кишечного тракта при проведении стандартной химиотерапии [37]:
Ранитидин или омепразол перорально рекомендуется для профилактики болей в эпигастрии после лечения стандартными дозами циклофосфамида, метотрексата и 5-фторурацила или лечения 5-фторурацилом с включением фолиевой кислоты или без нее.
В руководстве по лечению мукозитов 2019/2020 Многонациональной ассоциации поддерживающей терапии при раке (MASCC) в партнерстве с Международным обществом оральной онкологии (ISOO), а также в клинических рекомендациях общества специалистов поддерживающей терапии в онкологии 2021/2022 (RASSC) отсутствуют данные по профилактике и лечению гастроинтестинальных мукозитов, вызванных химиотерапией [38, 39].
Разработка методов профилактики и лечения гастроинтестинальной токсичности во время проведения ХТ остается актуальной проблемой среди современных ученых.
D. Thorpe опубликовал в 2019 г. статью, в которой поделился выводами о влиянии секреции муцина на развитие желудочно-кишечных мукозитов. Автор полагает, что большое содержание муцина на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта предотвращает развитие воспаления и уменьшает повреждения, вызванные мукозитом. Поэтому влияние на экспрессию муцина до и во время цитотоксического лечения может стать ключевым фактором для снижения тяжести данного нежелательного явления [40].
Группа бразильских ученых под руководством A. C. Medeiros в 2018 г. поделилась своим опытом назначения симвастатина для профилактики развития желудочно-кишечных мукозитов на фоне применения химиотерапии с включением 5-фторурацила у крыс. Исследователи пришли к выводу: применение симвастатина и фармакологической группы статинов в целом ослабляет проявления желудочно-кишечного мукозита в модели на животных [41].
Корейские исследователи во главе с L. Deng опубликовали в апреле 2022 г. результаты своей работы, в которой изучали эффективность средства китайской народной медицины Simоtаng, состоящего из натуральных растений, в лечении желудочно-кишечных побочных эффектов после химиотерапии [42]. Было обнаружено, что препарат эффективно уменьшает желудочно-кишечный мукозит после цитотоксического лечения путем снижения воспаления и уплотнения эпителиальных клеток кишечника.
Обсуждение
На основании проведенного анализа литературы можно утверждать, что общепринятых методов по профилактике мукозитов желудочно-кишечного тракта при применении 5-фторурацила не существует. Также на сегодняшний день не разработан эффективный антидот, применяемый при гастроинтестинальных поражениях, отсутствует общепринятая шкала для оценки тяжести мукозитов, как и прогностическая модель, которая бы позволяла онкологам выделять пациентов с солидными опухолями в группу с высоким риском развития мукозита.
При этом проблема не рассматривалась в контексте факторов, усугубляющих течение повреждений слизистой оболочки пищеварительного тракта, в т.ч. наличие инфекции H. pylori, весьма распространенной среди населения планеты. Ввиду этого проблема актуальна в современной медицине, требует изучения и разработки методов профилактики гастроинтестинальных мукозитов у больных, получающих лекарственное лечение с включением 5-фторурацила, что позволит улучшить отсроченные результаты противоопухолевого лечения посредством его полного и своевременного проведения, а также сохранить высокое качество жизни больных.
Заключение
С учетом многочисленных источников литературы можно сделать следующий вывод: в настоящее время 5-фторурацил широко применяется онкологами в лечении различных злокачественных опухолей организма человека. При этом профиль его токсичности достаточно высок, особенно со стороны пищеварительной системы, что приводит к трудностям проведения цитотоксической терапии. Все проанализированные публикации отражают необходимость изучения и разработки новых способов профилактики и лечения поражений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта у больных, получающих противоопухолевое лечение. Наличие этих инноваций даст возможность полного и своевременного проведения химиотерапии с включением 5-фторурацила, что обусловливает улучшение отсроченных результатов лечения и высокое качество жизни больных.
Дополнительная информация
Публикация статьи осуществляется в рамках диссертационной работы: «Профилактика и лечение поражений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки при комбинированной лекарственной терапии 5-фторурацилом».