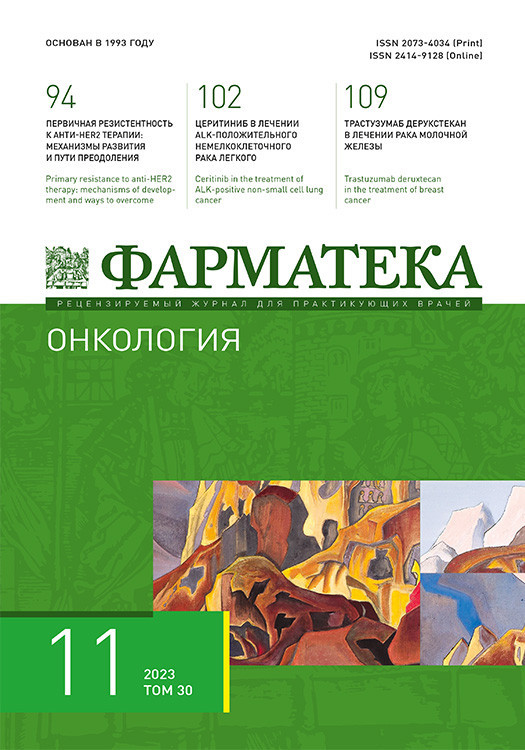Введение
Лечение больных раком молочной железы (РМЖ) – чрезвычайно сложная проблема, и, пожалуй, ни для одной другой локализации не характерно такое разнообразие подходов к лечению и их противоречивость. Несмотря на более чем столетний опыт хирургического лечения РМЖ, до сих пор вопрос выбора метода реконструкции остается дискутабельным среди хирургов-онкологов [1].
Ранее у большинства больных процесс излечения от РМЖ достигался путем выполнения калечащих операций или применения других агрессивных методов воздействия в виде интенсивного химиолучевого лечения, что приводило не только к физической и моральной ущербности, но и к глубоким психологическим расстройствам, нарушающим процессы адаптации и ресоциализации [2, 3]. В связи с этим в настоящее время остро встает вопрос повышения качества жизни пациенток. По мере изучения психосоциальной сферы жизни женщин после радикального лечения РМЖ выявлено, что психические расстройства встречаются в 96,1% наблюдений [4].
Из всего вышесказанного следует, что реконструкция молочной железы (МЖ) является важным этапом в комплексном лечении больных РМЖ. Выбор метода реконструкции МЖ зависит от стадии заболевания, конституциональных особенностей пациентки, предшествовавшей терапии, наличия сопутствующих заболеваний, возраста пациентки.
История реконструктивно-пластической хирургии у больных РМЖ
В комбинированном и комплексном лечении РМЖ основным методом по-прежнему остается хирургический [5]. Несмотря на выраженную тенденцию к выполнению органосохранных операций, радикальные мастэктомии (РМЭ) составляют 33–55% от всех операций по поводу РМЖ, а по данным некоторых авторов, достигают 70% [6, 7].
Внедрение в клиническую практику врачей-онкологов органосохраняющих и первичных реконструктивно-пластических операций способствовало обеспечению медицинской, психологической и социальной реабилитации больных РМЖ и как следствие – улучшению качества жизни [8, 9].
С конца XIX в. РМЭ была символом радикального лечения РМЖ. В связи с изучением распространения опухолевого процесса, усовершенствованием хирургических методик этот вид оперативного вмешательства претерпел значительные изменения. Показаниями к проведению мастэктомии являются мультицентричный рост, обширные участки микрокальцинатов на маммограммах, неблагоприятное соотношение размеров опухоли и МЖ [10].
В таком случае РМЭ относительно успешно решает лечебную задачу, но вместе с тем реконструкция МЖ зачастую бывает весьма затруднительной, что связано с восстановлением значительного дефицита кожи, мягких тканей в отсутствие их резервов, созданием объема, формы железы, сосково-арео-лярного комплекса и субмаммарной складки, обеспечением симметрии МЖ.
Впервые техника РМЭ была описана W.S. Halsted и W. Meyer в 1882 г. [4]. Операция подразумевала удаление всей ткани МЖ с кожей, подкожной клетчатки, большой и малой грудными мышцами, регионарными лимфатическими узлами 1–3-й уровней.
С течением времени стали разрабатываться новые техники хирургического лечения РМЖ, в частности, в 1932 г. D.H. Patey разработал методику РМЭ с сохранением большой грудной мышцы, а в 1948 г. ту же технику описал W.H. Dyson [11]. Революционным в хирургическом лечении РМЖ считается 1972 г., когда J.L. Madden предложил новый подход к выполнению РМЭ с сохранением обеих грудных мышц. Данная модификация способствовала значительному уменьшению болевого синдрома, снижению рисков развития лимфедемы, ограничения движений верхней конечности, что является очевидным преимуществом перед предшествующими методиками.
Хирургические попытки восстановления МЖ стали предприниматься еще в ХIХ в. В процессе развития пластической хирургии предлагались различные варианты операций. Материалом для пластики служили и противоположная МЖ, жировая ткань, свободные лоскуты и лоскуты на питающей ножке, а также синтетические эндопротезы. Использование здоровой МЖ для реконструкции недостающей МЖ предложили еще в тот период, когда хирурги начали применять операцию по ампутации МЖ при лечении рака. Одним из первых заместил удаленную по поводу рака МЖ частью, противоположной Verneuil, в 1858 г. [12].
Значительно позже, в 1898 г., независимо друг от друга три автора – Franke, Graeve и Leguen – описали один и тот же метод, согласно которому параллельными поперечными разрезами, проходящими под и над железой, производили мобилизацию здоровой МЖ, затем ее перемещали на участок дефекта. Поскольку при этом сосок с ареолой оказывался над грудиной, Helferich (1902) и Göbell (1902) назвали состояние после такой операции «cyclops-mamma». Позже немецкий хирург Vincenz Czerny (1842–1916) сообщил о первой пересадке липомы из ягодичной области в левую МЖ для восполнения объема после частичной резекции железы [12]. Возможность увеличения МЖ всегда связывали с идеей введения под грудь синтетических материалов.
Хирургом R. Gersuny в 1887 г. впервые использовался парафин [1], однако многочисленные осложнения препятствовали его применению в дальнейшем. Также использовались стеклянные шарики, каучук, пенопласт, полиуретан, полиэтиленовая и поливиниловая губки, вазелиновое масло и другие материалы [2].
G.A. Neuber (1893) первым осуществил пересадку жира у человека, Е. Lexer (1910) описал увеличение груди с помощью жировой ткани. Осложнения включали отек, гематомы, инфекцию, гранулемы, кисты и резорбцию. Описан также тяжелый сепсис в результате липофилинга МЖ. Так, кожно-жировые трансплантаты (обычно из ягодичной области) практиковались в 1940-х гг. Через некоторое время они фиброзировались с резким уменьшением объема [11]. Примерно в то же время, в 1906 г., I. Tansini впервые описал укрытие дефекта после удаления МЖ с использованием лоскута широчайшей мышцы спины [13].
С течением времени онкологи и пластические хирурги ставили перед собой более высокие цели конечных эстетических результатов и пришли к выводу, что именно техника мастэктомии предопределяет эстетические результаты реконструкции МЖ.
Так, B. Toth и P. Lappert в 1991 г. впервые предложили термин «skin-sparing mastectomy» («кожесохранная щадящая мастэктомия») и описали технику мастэктомии, подразумевающую удаление всей ткани МЖ, кожного лоскута, включая сосково-ареолярный комплекс, место биопсии и, что немаловажно, обеспечивая доступ к подмышечной впадине. Тем не менее сохранение кожного чехла, инфрамаммарной складки способствовало значительному улучшению косметических результатов операций [14]. Однако первая «nipple-sparing mastectomy» («подкожная мастэктомия») выполнена B.S. Freeman еще в 1962 г. и подразумевала максимальное сохранение кожного чехла с сосково-ареолярным комплексом при полном удалении ткани МЖ, но была описана B. Gerber et al. лишь в 1990 г. (см. таблицу).

Из области реконструкции формы МЖ аутологичными тканями особого упоминания достойно открытие TRAM-лоскута с последующей модификацией до DIEP-лоскутов, которые сейчас прочно занимают лидирующее положение среди всех реконструкций аутологичными тканями.
В 1982 г. C. Hartrampf [15] описал и применил с целью реконструкции на месте удаленной МЖ поперечный кожно-мышечный лоскут передней брюшной стенки на основе прямой мышцы живота – TRAM-flap (Transversus Rectus Abdominis Myocutaneous Flap). В состав лоскута входят кожа, жировая клетчатка, апоневроз и фрагмент прямой мышцы живота. При создании TRAM-лоскута используется нижняя часть брюшной жировой клетчатки, и он основан на верхней эпигастральной артерии, которая является продолжением внутренней молочной артерии (рис. 1). Его приподнимают ипсилатеральной прямой мышцей и туннелируют в место мастэктомии. Иногда следует выполнять отсроченные процедуры путем перевязки глубокой нижней эпигастральной артерии, чтобы задействовать дросселирующие сосуды, а верхние эпигастральные сосуды взяли на себя перфузию TRAM-лоскута на ножке [16]. Поскольку заготовка этого лоскута включает удаление фасциального покрытия, закрытие требует установки сетки, и у пациентов этой группы существует связанный с этим повышенный риск послеоперационной грыжи [17].

Ранее впервые свободный ягодичный кожно-мышечный лоскут был описан T. Fujino в 1975 г. [18], при этом анастамоз выполнялся между верхними ягодичными и наружными грудными сосудами. Однако истинную универсальность использования ягодичного лоскута продемонстрировал I. Koshima в 1993 г. [19], успешно использовавший данный лоскут для реконструкции лица. Примерно в то же время J.C. Grotting (в 1991 г.) описывает успешное применение перфорантного лоскута поверхностной нижней эпигастральной артерии (SIEA – superficial inferior epigastric artery).
Свободные лоскуты на основе глубоких нижних эпигастральных сосудов (ветвей наружной подвздошной артерии) включают свободную кожно-мышечную поперечную мышцу живота (TRAM), свободный мышечный TRAM (ms-TRAM) и глубокий нижний эпигастральный перфоратор (DIEP). Свободный лоскут на основе поверхностных нижних эпигастральных сосудов (ветвей бедренных сосудов) представляет собой перфорантный лоскут поверхностной нижней эпигастральный артерии SIEA (рис. 2). Менее 10% лоскутов на брюшной полости являются поверхностно доминантными [20].

Большинство перфораторов, необходимых для лоскута DIEP, находятся в пределах 10 см от пупка. Зоны перфорации различаются в зависимости от выбранного ряда перфораторов [21, 22]. При односторонней реконструкции срединную линию можно пересечь, чтобы включить зону, непосредственно прилегающую к средней линии, тогда как этот вариант недоступен при использовании лоскутов SIEA.
Использование в реконструкции МЖ вышеописанного лоскута является методом выбора, к которому прибегают в случае имеющихся противопоказаний к применению лоскута передней брюшной стенки, а также с целью предотвращение осложнений, связанных с забором m. rectus abdominus. Основным недостатком ягодичного кожно-мышечного лоскута считаются большой объем m. gluteus, короткая сосудистая ножка, что может потребовать использования венозных графтов с повышенным риском сосудистых осложнений.
Современный взгляд на реконструктивную хирургию МЖ аутологичным методом
Выделяют 3 группы одномоментной реконструкции МЖ у больных РМЖ: первая – с использованием аутологичных лоскутов, вторая – с использованием синтетических материалов (силиконовых экспандеров и эндопротезов), третья – сочетание двух методик [23].
Выбор в пользу того или иного метода одномоментной реконструкции индивидуален и зависит от многих факторов: в первую очередь от наличия показаний и противопоказаний к каждому методу реконструкции, во вторую очередь от анатомических особенностей пациентки, от ее предпочтения. Также немаловажным является наличие факта проведения лучевой терапии в послеоперационном периоде, что является отягощающим фактором в получении красивого эстетического результата на фоне высокого риска развития осложнений.
Важно отметить, что в настоящее время на долю реконструкций МЖ с использованием силиконовых эндопротезов приходится около 80% [24]. Такой высокий процент операций безусловно связан с более простой техникой выполнения, меньшей травматизацией, более коротким реабилитационным периодом [25, 26].
Тем не менее реконструкция МЖ с использованием аутологичных лоскутов имеет ряд преимуществ. Например, более натуральный естественный окончательный вариант, более долгосрочный эстетический результат [27, 28]. Но, несмотря на это, во многих странах, в частности в США, наблюдается снижение доли таких пациенток, которые выбираю данный метод реконструкции. Хотя появление перфораторных лоскутов, таких как DIEP, SIEA SGAP, PAP, TUG и т.д., казалось бы, предоставляет женщинам больший выбор и возможность минимизировать травму донорских зон, тем не менее микрососудистая техника по своей сути является сложным процессом с повышенными требованиями, предъявляемыми к практикующим врачам, а также к системе здравоохранения.
Данный факт нашел подтверждение в опросе членов Американского общества реконструктивной микрохирургии (American Society for Reconstructive Microsurgery), в котором говорится о значительном снижении доли микрохирургической практики в их повседневной работе [29].
Несмотря на растущую популярность в мировой литературе об изучении качества жизни пациентов после перенесенной реконструкции МЖ, немногие исследования проводят сравнительный анализ различных методик. Так, в своем исследовании H. Yueh Janet et al. [30] сравнили четыре метода реконструкции МЖ и выявили факторы, влияющие на улучшение эстетического результата операции.
В исследование были включены пациентки (n=583), которым одним из этапов комплексного лечения выполнялась одномоментная реконструкция МЖ с 1999 по 2006 г. в одном учреждении. Авторы разделили всех пациенток на 4 группы: 1-я – двухэтапная реконструкция с использованием тканевого экспандера/имплантата, 2-я – одномоментная реконструкция TDL, 3-я – TRAM и 4-я – DIEP. В ходе исследования применялся опросник, оценивающий качество жизни пациентов. Заполнено 439 анкет, что составило 75%, включая 87 пациентов с реконструкцией экспандер/имплантатом, 116 – TDL, 119 – TRAM и 117 – DIEP-лоскутом. Пациенты с реконструкцией DIEP-лоскутом имели самый высокий уровень общей удовлетворенности (80%), а пациенты с TRAM имели самый высокий уровень эстетической удовлетворенности – 77% (р<0,001 и р<0,001 соответственно). Качество жизни, связанное со здоровьем, и продолжительность времени после операции были определены как значимые предикторы, влияющие на удовлетворенность пациентов. После логистического регрессионного анализа реконструкция аутологичными лоскутами имела достоверно более высокое общее и эстетическое удовлетворение, чем реконструкция на основе силиконовых имплантатов (р=0,017 и р<0,001 соответственно). Среди аутологичных реконструкций лоскуты передней брюшной стенки имели достоверно более высокую общую и эстетическую удовлетворенность, чем торакодорзальные лоскуты (р=0,011 и р=0,016 соответственно). Общая и эстетическая удовлетворенность при сравнении реконструкции TRAM и DIEP не имели статистически значимых различий (р=0,659 и p=0,198 соответственно).
Таким образом, авторы делают выводы, что аутологичные реконструкции имели самые высокие показатели удовлетворенности во всех четырех группах. После логистического регрессионного анализа различий в удовлетворенности пациентов между реконструкцией TRAM- и DIEP-лоскутами не наблюдалось. Обсуждение результатов удовлетворенности с пациентками поможет в будущем обоснованно помочь им в принятии решения о реконструкции МЖ.
Известен тот факт, что различные методики реконструкции МЖ имеют различные процессы старения, и время, когда эти процессы стабилизируются, неясно. Цель авторов одного из исследования S.Hu. Emily et al. [31] состояла в том, чтобы оценить долгосрочную эстетическую удовлетворенность пациенток от различных методик реконструкции МЖ, в частности экспандер/имплантата и аутологичного лоскута. Авторы обследовали пациенток, перенесших постмастэктомическую реконструкцию МЖ (частота ответов – 73%) с 1988 по 2006 г. (110 экспандер/имплантатов и 109 TRAM-лоскутов). Каждая группа была стратифицирована на три постреконструктивных периода: краткосрочный (<или=5 лет), промежуточный (от 6 до 8 лет) и долгосрочный (>8 лет). Валидированные показатели удовлетворенности оценивались по 5-балльной шкале Лайкерта. Среднее время наблюдения после реконструкции составило 6,5 лет (диапазон от 1 до 18 лет). Метод реконструкции не оказывал существенного влияния на кратковременное эстетическое удовлетворение пациенток, однако в долгосрочной перспективе тип реконструкции значительно повлиял на этот показатель. Хотя удовлетворенность реконструкцией TRAM-лоскутом оставалась относительно постоянной, удовлетворенность методом реконструкции с использованием экспандер/имплантата была значительно меньше среди этих пациенток в долгосрочной перспективе. Пациентки, перенесшие реконструкцию методом экспандер/имплантата более 8 лет назад, по сравнению с теми, кто перенес ту же реконструкцию менее 5 лет назад, были значительно меньше удовлетворены внешним видом реконструированной МЖ (отношение шансов [ОШ]=0,10, 95% доверительный интервал [ДИ]: 0,02–0,48), мягкостью (ОШ=0,14, 95% ДИ: 0,03–0,64) и размером (ОШ=0,13, 95% ДИ: 0,03–0,62).
Поэтому в долгосрочной перспективе пациентки с реконструкцией ТРАМ-лоскутом по сравнению с экспандер/имплантатом, по-видимому, имеют значительно большее эстетическое удовлетворение. Эти долгосрочные данные имеют большое значение для здоровья женщин в период выживания и помогут им ориентироваться в сложном процессе принятия решений о реконструкции МЖ.
К плюсам одномоментной реконструкции МЖ аутологичными лоскутами стоит отнести и низкий процент осложнений по сравнению с методикой на основе алломатериалов. Поэтому высокая частота отказов от хирургического вмешательства, связанных с одномоментной реконструкцией с использованием силиконовых имплантатов, привела к тому, что некоторые пластические хирурги отдают предпочтение методике с использованием аутологичных лоскутов. Системный обзор 25 исследований (M.V. Schaverien, R.D. Macmillan, S.J. McCulley et al.) на основе изучения частоты возможных осложнений методики аутологичными лоскутами показал сопоставимые результаты по частоте осложнений и ревизионных операций в группах как с проведением лучевой терапии, так и без нее. Однако у пациенток, которым проводилась дистанционная лучевая терапия, значительно чаще наблюдался жировой некроз. Тем не менее в выводах авторы акцентируют внимание, что этот результат необходимо интерпретировать с осторожностью из-за ограничений, присущих набору данных, собранных из нескольких ретроспективных нерандомизированных исследований, и ограниченного времени последующего наблюдения [32].
Заключение
Обобщая все вышесказанное, стоит отметить, что стремление к минимизации осложнений, совершенствованию косметических результатов вызвало поиск дальнейших методов усовершенствования реконструкции МЖ. Несмотря на то что реконструкция с использованием силиконовых эндопротезов вышла на первый план, метод с использованием аутологичных лоскутов имеет ряд преимуществ, которые необходимо озвучивать пациенткам при принятии решения.
Вклад авторов. Ш.Г. Хакимова – написание текста рукописи, обзор публикаций по теме статьи. А.Д. Зикиряходжаев, А.Д. Каприн – руководитель научного проекта. Г.Г. Хакимо-ва – анализ результатов исследований. И.М. Онофрийчук – анализ литературных данных. Е.А. Рассказова – статистический анализ. А.С. Сухотько – анализ полученных данных. А.Р. Босиева – редактирование. В.К. Токаев – дизайн исследования.