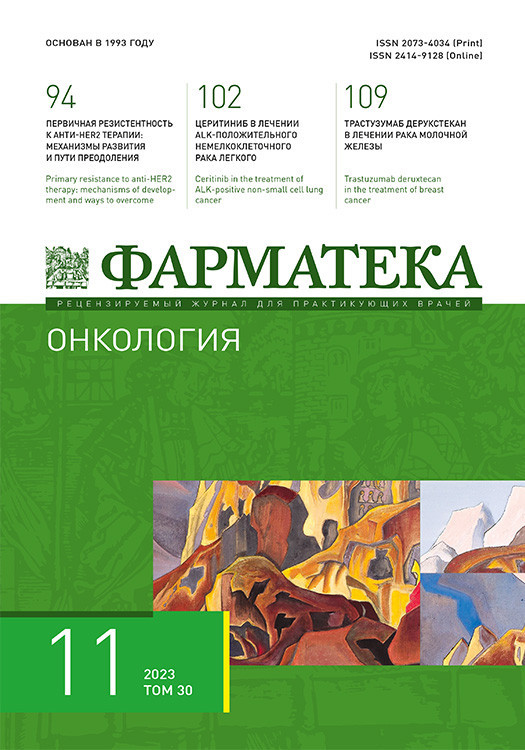Введение
Рак молочной железы (РМЖ) является самой распространенной опухолевой локализацией у женщин [1]. Согласно данным мировой статистики, РМЖ составляет около 12% среди всех видов рака, ежегодно диагностируемых во всем мире, и является одной из ведущих причин смертности среди женщин [2]. Все женщины вне зависимости от расовой, этнической и возрастной принадлежности имеют риск развития РМЖ [3]. К наиболее существенным факторам риска относятся возраст, возраст первой беременности, менопаузальный статус, семейный анамнез, наличие генетических мутаций, а также кормление грудью [4].
Клинически РМЖ можно разделить на три большие группы, согласно уровню экспрессии гормональных рецепторов, а также статуса рецептора HER/neu 2 [5, 6]. Основными подтипами являются люминальный, HER2-экспрессирующий и трижды негативный [7].
Важность HER2-рецептора и его влияние на лечение сложно переоценить. HER2-рецептор амплифицируется в 25–30% всех случаев РМЖ. Экспрессия данного белка ассоциирована с агрессивным клиническим течением, коротким безрецидивным периодом, снижением ответа на гормональную терапию и низкой общей выживаемостью [8, 9].
Разработка и внедрение в клиническую практику гуманизированного анти-HER2 моноклонального антитела изменили клиническое течение и прогноз в лучшую сторону для пациентов с данным подтипом РМЖ [10, 11]. Однако на сегодняшний день остается когорта пациентов, не восприимчивых к данной терапии. Целью демонстрации данного клинического случая является актуализация проблемы первичной резистентности (ПР) к анти-HER2-терапии, рассмотрение механизмов резистентности и путей ее преодоления.
Что такое HER2?
Рецептор 2 эпидермального фактора роста человека (HER2) представляет собой рецептор тирозин-протеинкиназы ErbB-2, также известный как CD340 (кластер дифференцировки 340), протоонкоген Neu, Erbb2 (грызун) или ERBB2 (человек). Это белок, который у человека кодируется геном ErbB2. HER2 относится к рецептору эпидермального фактора роста человека (HER/EGFR/ERBB). Было установлено, что избыточная экспрессия этого онкогена играет важную роль в росте и прогрессировании некоторых подтипов РМЖ [12]. Рецепторы эпидермального фактора роста человека также включают HER1 (который является рецептором EGFR), HER3 (ErbB3) и HER4 (ErbB4). Белок HER2 обладает способностью димеризоваться с HER1, HER3 или HER4. У HER2 нет известного лиганда, что позволяет ему всегда находиться в открытом доступе для димеризации с HER1, HER3 или HER4. Таким образом, когда ген HER2 сверхэкспрессируется, он обеспечивает рост, выживание и дифференцировку клеток посредством каскада передачи сигнала, опосредованного активацией PI3K/Akt, и путей Ras/Raf/MEK/MAPK [13].
Приблизительно 2 млн белков HER2 присутствуют на поверхности HER2-положительных раковых клеток. Это примерно в 100 раз больше, чем в обычной клетке [14]. Избыточная экспрессия HER2 приводит к более быстрому росту и пролиферации клеток. Димеризация HER2 является очень важным этапом в сигнальном пути, который приводит к развитию рака [15].
Резистентность к HER2
Введение анти-HER2-препаратов в схемы периоперационной терапии произвело революцию в прогнозах HER2-позитивного РМЖ. Однако рецидивы по-прежнему неизбежно возникают у значительной части пациентов. Данные рецидивы могут быть дополнительно классифицированы как «ПР к трастузумабу» и «приобретенная устойчивость к трастузумабу». Около 20% пациентов с РМЖ не отвечают на неоадъювантную терапию, содержащую трастузумаб, и >50% пациентов с метастазами страдают от прогрессирования заболевания после лечения трастузумабом в первой линии. В конечном счете почти у всех пациентов развивается приобретенная резистентность к трастузумабу после нескольких линий лечения [16, 17].
На сегодняшний день трудно дать точное определение понятия ПР к анти-HER2-терапии. Данная проблема связана с невозможностью достоверно установить время наступления резистентности, когда впервые диагностированный рецидив возникает после адъювантной терапии трастузумабом. Большинство клинических исследований используют разные временные рамки для оценки ПР после адъювантного трастузумаба: прогрессирование во время адъювантного лечения, рецидив в течение 3 месяцев после последнего приема трастузумаба, рецидив в течение 6 месяцев после последнего приема трастузумаба и т.д. [18].
Механизмы ПР
В настоящий момент достоверно утверждать о механизмах ПР трудно. Существует мало исследований, проводимых на данную тему в силу редкости данного состояния. Однако можно отметить, что первичная и приобретенная резистентности имеют некоторые схожие механизмы. К таким механизмам относят аберрантную активацию PI3K/Akt/mTOR каскада, изменения в апоптозе и клеточном цикле, ускользание от антителозависимой клеточноопосредованной цитотоксичности, экспрессию на клеточной мембране других Т-клеточных рецепторов (ТКР), перекрест между рецепторами эстрогенов и HER2-путями.
Аберрантная активация PI3K/Akt/mTOR каскада
Путь PI3K/Akt – это нисходящий сигнальный путь, который может быть активирован HER2 и другими сигналами ТКР. Он может быть активирован путем амплификации или мутации фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат 3-киназы каталитической субъединицы a-изоформы (PI3KCA) или Akt1, или путем мутации или потери экспрессии опухолевых супрессоров, которые ингибируют путь, таких как PTEN95 и инозитолполифосфат-4-фосфатаза, тип II (INPP4B) [19]. По результатам отчета Cancer Genome Atlas Network данные изменения являются распространенными: мутация PI3KCA – 42%, мутация/потеря экспрессии PTEN – 19%, потеря экспрессии INPP4B – 30% [20]. Недавний мета-анализ, в котором изучалась прогностическая роль мутаций PI3KCA, потери PTEN и активации пути PI3K, обнаружил единственную связь между потерей PTEN и резистентностью к трастузумабу для прогрессирующего заболевания, хотя различия в используемых методах исследований и разнообразные пороговые значения могли бы объяснить данные результаты [21]. Кроме того, данные получены из исследований с двойной блокадой HER2, которые включали различные комбинации трастузумаба и пертузумаба или трастузумаба и лапатиниба, показали лучшие показатели pCR для тех пациентов, у которых не было выявлено мутации PI3KCA [22].
Попытка противостоять данному механизму резистентности была предпринята с использованием эверолимуса, ингибитором mTOR, в исследованиях BOLERO-1 и BOLERO-3. По результатам данных исследований установлено, что, несмотря на предполагаемую эффективность эверолимуса, пользы в реальной клинической практике не удалось достичь. Так, по результатам исследования BOLERO-3 медиана БРВ была достоверно выше в группе эверолимуса и составила 7 месяцев (р=0,0067). Хотя разница и статистически достоверна, она небольшая: 7 месяцев против 5,78 (ОР=0,78, 95% ДИ: 0,65–0,95; р=0,0067) [23, 24]. В настоящий момент проводятся клинические исследования, сочетающие ингибиторы пути PI3K/Akt и анти-HER2.
Изменения в апоптозе и контроле клеточного цикла
Одним из конечных эффектов активации сигнала HER2 является ингибирование гибели клеток, поэтому изменения в апоптическом механизме могут вызывать устойчивость к трастузумабу. Например, высокие уровни Bcl-2-подобного белка 11 (BIM) были связаны с чувствительностью к лапатинибу [25]. In vitro снижение экспрессии PTK6, нерецепторной тирозинкиназы, в клетках HER2 позитивного РМЖ, устойчивых к лапатинибу, может усилить экспрессию BIM, вызывая апоптоз. Сверхэксперссия t-Darpp, усеченной формы ингибитора двойной киназы/фосфатазы Darpp-32, была связана с приобретенной резистентностью к трастузумабу и лапатинибу, в данном случае вызванной накоплением BIM [26].
Еще один механизм связан с P27Kip1. Он является ингибитором CDK, который блокирует комплексы циклина E/CDK2, вызывающие остановку клеточного цикла. Он может быть фосфорилирован Akt, после чего нацелен на протеасомальное разрушение, что может приводить к продолжению клеточного цикла. Амплификация/гипер-экспрессия циклина Е связана с более низкой частотой ответа (ЧО) и безрецидивной выживаемостью (БРВ), что было продемонстрировано в небольшом исследовании с 34 пациентами, получавшими трастузумаб [27].
Помимо этого, по данным одного из исследований, установлено, что сверхэкспрессия белка AXL является важным механизмом резистентности к трастузумабу. AXL является членом семейства рецепторных тирозинкиназ TAM (TYRO3, AL, MER), связанных с EMT. Передача сигналов через данный белок способствует выживанию клеток, устойчивости к аноикису, лекарственной резистентности, инвазии и метастазированию при различных видах рака. AXL управляет переходом от эпителия к мезенхиме и гетеродимеризуется с HER2, что приводит к активации путей PI3K/AKT и MAPK лиганд независимым образом. Генетическое истощение и фармакологическое ингибирование AXL восстанавливает реакцию на трастузумаб in vitro и in vivo [28]. Ингибитор AXL в сочетании с трастузумабом обеспечил полную регрессию в моделях ксенотрансплантатов, полученных от пациентов с резистентностью к трастузумабу [29]. Более того, экспрессия AXL в HER2-позитивных первичных опухолях была способна предсказывать прогноз.
Данные исследования PAMELA показали изменение экспрессии AXL во время неоадъювантной двойной блокады HER2, подтверждая его роль в резистентности [30].
Таким образом, белок AXL является прогностическим биомаркером и потенциальной терапевтической мишенью для восстановления ответа на трастузумаб при раке молочной железы HER2+ [31, 32].
Ускользание от антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности
В 1992 г. S. Aaltomaa et. al. продемонстрировали связь между лимфоцитарной инфильтрацией и увеличением выживаемости при опухолях молочной железы у 489 пациенток с ранней формой РМЖ [33]. Также недавно было установлено, что большинство лимфоцитов, связанных с опухолью, имели положительное влияние на достижение частоты полного патоморфологического ответа (pCR) после антрациклинсодержащей предоперационной химиотерапии [34]. Эти наблюдения отражают актуальность иммунного ответа на эволюцию рака.
Иммунный ответ также играет ключевую роль в терапевтической активности моноклональных антител (mAbs). Трастузумаб связывается с HER2 и Fc-рецепторами, которые также находятся на клетках-киллерах (NK), антиген-представляющих клетках или иммунных эффекторных клетках, заставляет их стать активными и атаковать опухолевую клетку, покрытую антителами [35]. Данный механизм регулируется экспрессией различных полиморфических рецепторов на иммунных клетках, уровнем экспрессии антигена опухоли, а также частотой и реактивностью иммунных клеток в микросреде опухоли [36].
Три полиморфизма Fc-рецепторов изучены в качестве прогностических факторов ответа на трастузумаб 54 пациентов с распространенным HER2-позитивным РМЖ. Это ретроспективное исследование показало связь между более высокой ЧО, ВПБ и FcRIIIa-158 валином (V)/фенилаланином (F), FcRIIa-131 гистидином (H)/аргинином (R) и полиморфизмами FcRIIb-232 изолеуцина (I)/треонина (T) [37]. Напротив, другие исследования, проведенные в условиях адъювантной терапии, не показали корреляции между этими полиморфизмами и улучшением ВБП для пациентов, получавших трастузумаб [38].
Таким образом, новые терапевтические подходы должны сочетать анти-HER2-препарат и агент, который может усилить иммунный ответ, такой как анти-PD-1/-PD-L1 или антицитотоксический Т-лимфоцитарный белок 4 (CTLA-4) mAbs. В настоящий момент также ведутся исследования в данном направлении.
Экспрессия на клеточной мембране других ТКР
Трастузумаб не может полностью ингибировать сигнальный путь из-за избыточных лигандов и рецепторов, которые позволяют использовать альтернативные модели димеризации. К этой категории относятся рецептор эпидермального фактора роста (EGFR/HER1) и HER3, играющие важную роль в резистентности к трастузумабу. В ряде ретроспективных исследований продемонстрировано, что ко-экспрессия EGFR связана с худшим прогнозом выживания [39]. Ингибирование обоих ТКР показало синергетический эффект in vitro [40].
Наиболее изученным рецептором в этой группе являются инсулиноподобный рецептор фактора роста I (IGF1R), гетеротетрамерная трансмембрана ТКР, широко экспрессируемая в нормальных тканях. Связывание лиганда с IGF1R активирует те же пути, что и рецепторы семейства HER, такие как PI3K/Akt/mTOR и MAPK [41]. Дерегуляция сигнализации IGF1R появляется во многих сóлидных опухолях и связана со злокачественной трансформацией, что делает ее терапевтической мишенью, представляющей интерес [42, 43].
В HER2-позитивном РМЖ сверхэксперссиванный IGF1R может быть вовлечен в сигнальные комплексы с HER2 и HER3, которые активируют PI3K [44]. В попытках преодолеть данную резистентность проведены исследования в условиях in vitro, которые показали синергетические эффекты метформина и фигитумумаба, человеческого моноклонального антитела, который блокирует связывание лиганда IGF1R [45].
Met TKР и его лиганд являются фактором роста гепатоцитов. Они чрезмерно экспрессируют в некоторых HER2-позитивных опухолях. In vitro его совместная экспрессия с HER2 была связана с резистентностью к трастузумабу через длительную активацию Akt [46].
Исследование другого ТКР – EphA2, показало, что избыточная экспрессия данного рецептора связана с худшим прогнозом. Как предполагается, лечение трастузумабом способствует фосфорилированию EphA2 путем активации Src-киназы, которая увеличивает активность PI3K/Akt и MAPK-пути, что в конечном итоге приводит к резистентности к трастузумабу [47]. Таким образом, использование эритропоэтина может быть связано с устойчивостью к трастузумабу. Его связывание с рецептором эритропоэтина может активировать Src и инактивировать фосфатазу и гомолог тезина (PTEN) [48].
Также помимо этого во многих исследования отмечено, что в микроокружении опухоли молочной железы наблюдается повышенный уровень катехоламинов.
Сигнальный путь β2-адренер-гического рецептора (β2-AR) индуцирует повышение экспрессии HER2 посредством активации внеклеточной киназы, которая в свою очередь может усилить синтез катехоламинов [49]. Механизм положительной обратной связи может способствовать экспрессии обоих рецепторов и способствовать активному росту. Высокая экспрессия β2-AR отрицательно коррелирует с ответом на трастузумаб. Это явление, как предполагают исследователи, опосредовано активацией пути PI3K/Akt/mTOR пути [50]. Попыткой воздействовать на этот механизм является использование комбинированной терапии трастузумабом и β-блокаторами.
Перекрест между рецепторами эстрогенов и HER2-путями
На основании ряда исследований отмечено, что гиперэкспрессия HER2 связана с устойчивостью к тамоксифену in vitro и in vivo [51]. Пациенты с экспрессией рецепторов эстрогена (ЭР) и HER2, получавшие эндокринную терапию, показали более низкую ЧО по сравнению с теми, у кого не было гиперэкспрессии HER2 [52]. Помимо этого установлено, что пациенты с опухолями ЭР+ HER2+, получавшие трастузумаб-содержащую предоперационную терапию, имели более низкие показатели полного патоморфологического ответа [53]. Данные результаты приводят к мысли, что существует двунаправленный перекрест между обоими путями. ЭР в основном является ядерным рецептором и функционирует как лиганд-зависимый транскрипционный фактор, который регулирует экспрессию различных генов, таких как IGF1R, циклин D1, bcl-2, VEGF-R, рецепторы семейства HER или лиганды, такие как амфирегулин или TGF-α (путь геномного сигнализирования эстрогена) [54].
Существует также небольшая группа ЭР, расположенных в цитоплазме и неядерных субклеточных элементах. Активация этих рецепторов повышает уровень циклического аденозинмонофосфата и других вторичных мессенджеров. Эта реакция может активировать различные ТКР, такие как IGF-IR, EGFR и HER2 (негеномный сигнальный путь эстрогена). Этот пул ЭР также может взаимодействовать с протеинкиназами, такими как PI3K, и адаптерными молекулами, такими как Src [55]. Кроме того, различные киназы, зависящие от фактора роста, могут фосфорилировать ЭР и совместные регуляторы пути ЭР, поэтому ингибирующее действие эндокринной терапии, в основном селективных модуляторов ЭР, может быть слабым в случае HER2 позитивного РМЖ [56].
Согласно ряду исследований, одновременное ингибирование путей HER2 и ЭР может быть более эффективным, чем ингибирование только гормональных рецепторов, хотя ни одно из исследований не продемонстрировало увеличения общей выживаемости.
Клинический случай
Женщина 36 лет обратилась в клинику СПбГУ для получения консультации после самостоятельного обнаружения новообразования в правой молочной железе. При осмотре молочных желез и зон регионарного лимфооттока выявлены отечность правой молочной железы и плотное образование размером до 20 мм с неровной поверхностью, а также лимфатические узлы в правой аксиллярной области каменистой структуры максимальным размером до 15 мм. По данным маммографии обнаружено мультифокальное образование без четких контуров размером до 41×35 и 12×11 мм. Дообследование с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии установило поражение правых подключичных лимфатических узлов. Выполнена трепан-биопсия новообразования правой молочной железы и подмышечного лимфатического узла. По данным гистологического исследования была верифицирована инвазивная неспецифицированная карцинома G3: ЭР – 0%, прогестероновые рецепторы (ПР) – 0%, Ki67 – 60%, HER2 – 3+. Установлен клинический диагноз «рак правой молочной железы cT4mN3a, нелюминальный HER2-позитивный тип». На основании полученных данных предложен неоадъювантная терапии по схеме TCHP, 6 циклов.
По прошествии 3 курсов предоперационной терапии выполнена повторная маммография. Данные исследования продемонстрировали продолженный рост опухоли в виде увеличения размеров образования до 43×39×34 мм.
Совместно с хирургами онкологического отделения принято решение пересмотреть биопсийный материал и выполнить повторную биопсию с целью исключения ошибок на аналитическом этапе гистологического исследования, а также исключения гетерогенности опухоли. Повторное гистологическое исследование подтвердило нелюминальный, HER2-позитивный тип опухоли: ЭР – 0%, ПР – 0%, HER2 – 3+, Ki67 – 60%.
С учетом полученных данных пациентка была повторно представлена на полиидисциплинарном консилиуме. Общепринятым решением стало выполнение операции в объеме радикальной мастэктомии справа. По результатам гистологического исследования послеоперационного материала сформирован окончательный диагноз: «ypT2N3а, G3, ki67 – 60%, нелюминальный HER2-позитивный». Также было установлено, что степень опухолевого патоморфоза составила 3-й класс по RCB и 1-ю степень лечебного патоморфоза, согласно классификации Miller–Payne, что подтверждает резистентность опухоли к проводимой анти-HER2-терапии. Принимая во внимание высокий риск рецидива заболевания, принято решение о проведении послеоперационной лучевой терапии и курса адъювантной терапии препаратом трастузумаб-эмтанзин в течение 12 месяцев. На сегодняшний день, через год после операции, состояние пациентки стабильно, признаков рецидива заболевания не выявлено, проходит контрольные осмотры каждые 3 месяца.
Заключение
Таргетная анти-HER2-терапия значительно улучшила показатели выживаемости пациентов с HER2-положительным РМЖ, однако лекарственная устойчивость до сих пор остается серьезной проблемой. Согласно последним данным, исследования по этому вопросу можно разделить на два основных подхода: одни изучают более эффективные лекарственные комбинации, в то время как другие сосредоточиваются на выявлении новых целей и механизмов, которые потенциально могут стать новыми биомаркерами. Подтверждение фундаментальных исследований в клинической практике поможет разделить HER2-положительный РМЖ на различные подгруппы, что станет значительным прорывом в точном и персонализированном лечении HER2-положительного РМЖ. Процесс от фундаментальных исследований до клинического применения является длительным, поскольку перевод фундаментальных исследований в клиническое применение сталкивается со значительными препятствиями, включая выявление эффективных биомаркеров для использования, выяснение токсичности и побочных эффектов, поддержание биологической активности лекарств и улучшение селективности агентов.
Несмотря на множество проблем, изучение новых терапевтических стратегий лечения HER2-положительного РМЖ имеет первостепенное значение, т.к. детальное понимание данного молекулярного подтипа может приводить к выявлению новых целей и комбинированных методов лечения, которые позволят повысить эффективность существующей терапии и преодолеть лекарственную устойчивость, что в конечном итоге приведет к снижению смертности от одного из наиболее агрессивных молекулярных подтипов РМЖ.